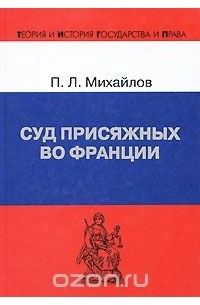Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 3. Создание суда присяжных во Франции в период Великой французской буржуазной революции
Заметное место в истории уголовного процесса Франции занимает период 1789–1808 годов. В это время определился вопрос о суде присяжных по гражданским делам, который навсегда был решен отрицательно; был введен суд присяжных в делах уголовных по преступлениям, влекущим наказание телесное или позорящее; было введено жюри обвинения, с которым Франция рассталась с принятием Кодекса уголовного расследования 1808 года; функционировал Революционный трибунал, показавший несостоятельность суда присяжных в делах политических в период гражданского противостояния. Изучение этого периода позволит глубже понять те проблемы, которые возникли во Франции в период создания Кодекса уголовного расследования. Кроме того, судопроизводство этих лет не подвергалось серьезному исследованию в отечественной литературе, хотя вопросы, решенные в этот период, не потеряли своей актуальности и сегодня.
Юстиция Франции в общих чертах была определена ночью 4 августа 1789 года после принятия декрета, статья 4 которого упразднила сеньориальную юстицию, статья 7 осудила продажность должностей в правосудии и обещала бесплатность правосудия. 11 августа Учредительное собрание добавило статью об избрании судей. При отсутствии новой судебной системы Декрет был половинчатым.
Статья 4 гласила, что всякая сеньориальная юстиция отменяется без какого либо возмещения, тем не менее офицеры этой юстиции продолжат свои функции до того, как Национальной ассамблеей будет предусмотрен новый судебный порядок, а ст. 7 устанавливала, что продажа судебных и муниципальных должностей отменяется, с этого момента правосудие будет отправляться бесплатно; тем не менее офицеры, предусмотренные для этих должностей, продолжат выполнять свои функции и получать за них возмещение до тех пор, пока Ассамблея предусмотрит средства их обеспечения.
17 августа 1789 года Н. Бергасс внес в конституционный комитет предложение об устроении судебной власти, которое он разработал за несколько дней. Селигман, считающийся лучшим историком суда и судопроизводства Франции периода революции, указывает, что «работа Бергасса заключала в себе принципы, которые освятит новая эра… Даже та быстрота, с которой Бергасс смог изложить столь обширную тему, показывает, что основные идеи в этой области являлись уже общественным достоянием».
Труд Н. Бергасса состоял из двух частей: в первой части Н. Бергасс критиковал, опираясь на наказы, имеющуюся судебную организацию; во второй части – предложил новую организацию правосудия. Предполагая, что деление королевства на провинции будет сохраняться и впредь, Н. Бергасс предложил установить в каждом из них суд, своего рода разновидность парламента. Провинции разделить на кантоны, в каждом из которых должен заседать мировой судья с двумя асессорами, чтобы судить в маловажных делах и примирять тяжбы, возникающие в семьях. Суды второй инстанции должны стать посредниками между судом провинции и мировым судьей. Экстраординарные суды должны быть отменены, за исключением коммерческих и морских трибуналов. Три кандидата в судьи избираются выборной коллегией, однако король имеет право из трех кандидатов выбрать одного для должности судьи. Судей морских и коммерческих трибуналов должны выбирать капитаны и торговцы. Судьи «по причине объема знаний, к несчастью, весьма обширного, который данная функция предполагает», должны назначаться пожизненно, но желательно полномочия судьи подтверждать через определенный промежуток времени, поскольку «мало оснований опасаться, что судья, имеющий хорошую оценку в глазах окружающих, рискует потерять свое место, народ заинтересован в том, чтобы сохранить такого судью». Следствие и дебаты ввести публичные, как в области гражданских, так и в области уголовных дел. Декрет о взятии под стражу должны выносить трое судей. Всякий обвиняемый может объявляться виновным только своими пэрами, присяжными.
Рядом с трудом Н. Бергасса, который хотя и был принят сочувственно, но не был утвержден из-за отсутствия четкого деления территории и конституции, Селигман отмечает труд Туре, посвященный анализу главных идей об основах конституции и о признании прав человека в обществе, увидевший свет 11 августа 1789 года. Четвертая секция этой работы озаглавлена «Суды и судебная власть», в ней Туре указал, что «будут учреждены присяжные по уголовным делам».
Несмотря на то, что обсуждение предложений Н. Бергасса было отложено, Учредительное собрание озаботилось принятием неотложных мер в уголовном процессе, что было признано первоочередной задачей Ассамблеи.
21 августа после речей Тарже, Дюпора, Мирабо и Лалли-Толандаля были приняты ст. 7, 8, 9 Декларации прав человека и гражданина, провозгласившие, что гражданин может быть задержан и арестован только на основании закона и с соблюдением формы, которую последний предполагает; что закон допускает наказания, лишь строго и очевидно необходимые, и никто не может быть наказан кроме как на основании закона, установленного и вступившего в силу до совершения правонарушения и надлежаще примененного; что всякий человек считается невиновным до того времени, когда он будет объявлен виновным.
Для суда присяжных особое значение имела ст. 16 Декларации о разделении властей: «Всякое общество, в котором гарантии прав не обеспечены и разделение властей не определено, не имеет вовсе конституции». Из данной статьи, предусматривающей механизм предупреждения произвола, прямо следовала идея разделения судебной власти между профессиональными магистратами и обществом для предупреждения судебного произвола. Не меньшее значение имела ст. 3 Декларации о том, что «принцип всякого суверенитета заключается исключительно в нации. Всякая корпорация и всякий индивид могут иметь полномочия, только исходящие от нации».
10 сентября 1789 года Учредительному собранию было представлено постановление коммуны Парижа, требующее немедленного реформирования некоторых положений уголовного процесса, особенно скомпрометировавших себя. Комитету из семи человек было поручено разработать и представить доклад по предложениям коммуны. 29 сентября Ассамблея ознакомилась с Декретом о предварительной реформе уголовного процесса. Докладчиком был Бомет. Дискуссия открылась утром 5 октября. 8 и 9 октября Декрет был принят. Были отменены пытка, скамья подсудимых, клятва, приносимая обвиняемым. Позорящее и мучительное наказание могло теперь выноситься при большинстве в две трети голосов. Судебный процесс становился публичным и делился на три стадии.
В начале процесса, когда обвиняемый еще не был предан в руки правосудия, вопрос о абсолютной публичности не стоял, однако даже на этих первых шагах следствие не было абсолютно секретным. Статья 1 данного Декрета предусматривала, что во всех местах, где имеется один или более трибуналов, муниципалитет, а при его отсутствии – коммуна граждан, назначает достаточное число нотаблей в соответствии с широтой компетенции, среди которых будут выбираться аджуанты, обязанные присутствовать при расследовании в уголовном процессе. После вынесения тремя судьями Декрета о персональном вызове в суд или о задержании миссия асессоров прекращается.
Во второй стадии обвиняемый свободно выбирает защитника, если же он не сможет этого сделать, судья должен назначить защитника. Защитник присутствует на всем следствии без права слова или влияния на ответы обвиняемого.
Третья стадия процесса начинается в заседании суда. Один из судей докладывает дело, и государственный обвинитель дает свое заключение в отсутствие подсудимого. Затем вводится подсудимый для последнего допроса. Защитник подсудимого, присутствующий на всем заседании, представляет затем доводы защиты. Судьи после этого удаляются в совещательную комнату и выносят решение без перерыва.
С учреждением почетных граждан – асессоров – идея жюри сделала свой первый незначительный шаг в уголовный процесс, хотя эти представители и напоминали скорее понятых, чем присяжных, поскольку вся забота о процессе ложилась на плечи магистрата, однако народное представительство получило свое первое оформление. Как следует из доклада Бомета, введение аджуантов было необходимо и для того, что бы путем опривычивания подготовить французов к отправлению правосудия при посредстве присяжных. «Граждане, привыкшие при посредстве данного института участвовать в священных функциях магистратуры, поднимутся понемногу к чувству, столь полезному, собственного достоинства. Они не будут рассматривать более право судить себе подобных, это право всех свободных людей, как прерогативу особенной касты; они приблизятся понемногу от этого общественного духа, столь необходимого, к установлению осуждения при посредстве присяжных, установлению, которое не является иностранным для Франции, но которое, чтобы вновь возродиться в своем первоначальном климате, требует может быть больше еще движения в общественном сознании, чем изменения в институтах».
Между тем установление асессоров не принесло такого эффекта, на который рассчитывали. Это было связано с частым отказом асессоров, ссылающихся на занятость, от исполнения своих обязанностей. Кроме того, учреждение прюдомов-асессоров преследовало цель сделать публичным следствие в отсутствие обвиняемого, так как асессоры удалялись из процесса с появлением такового, и с этой точки зрения асессоры преследовали совершенно иную цель, чем институт присяжных в уголовном процессе. Они не решали вопросы факта, а лишь удостоверяли данные факты.
Вопрос о введении суда присяжных ждал своего разрешения, чему препятствовала невозможность судоустройства без решения вопроса о разделении Франции и без закрепления основ существующего строя. После того, как Учредительное собрание провозгласило политические принципы нового режима и разделило Францию на департаменты и дистрикты, конституционный комитет подготовил проект реорганизации судов. Ввиду того, что Н. Бергасс покинул Ассамблею, доклад по судебному закону делал Туре – адвокат Руанского парламента, депутат от третьего сословия данного города. 22 сентября 1789 года утром Туре представил свой доклад, объявив, что комитет, следуя тем же принципам, что и Н. Бергасс, пришел к иным результатам, но данные результаты весьма благоприятны для сохранения свободы. Дискуссия по принципам судоустройства открылась 24 марта 1790 года. Чтобы понять, какой должна быть судебная система, решили сначала опрпеделить, стоит ли сохранить частично старую систему судопроизводства и судоустройства или переделать ее заново. 29 марта 1790 года дискуссия была продолжена. В дискуссии принимали самое активное участие Тарже, Дюпор, Гара-младший, Гара-старший, Шабру, Дофинэ, Ренье, Тронше, Дешеню, Сийес, Газале, Робеспьер, Ламет, Мирабо, Шапелье и др. Было предложено для обсуждения три проекта: проект конституционного комитета, озвученный Туре, проекты Дюпора и Сийеса.
В делах уголовных Туре предложил учредить жюри. Статья. 1 главы 12 проекта, названная «О судьях и о формах судопроизводства в делах уголовных», гласила: «Форма уголовного судопроизводства в делах уголовных посредством жюри есть один из фундаментальных пунктов Французской конституции». Согласно ст. 2 необходимо было незамедлительно разработать новый Кодекс уголовной процедуры, чтобы представить форму осуждения присяжными, практикуемую в судебной организации королевства, не позднее 1792 года. В данном Кодексе должны быть предусмотрены следующие правила:
«Ст. 3. Присяжные будут избираться каждые два года среди граждан известной честности и добрых нравов выборщиками, которые определяют представителей в Законодательный корпус.
Ст. 4. Тотчас же после выборов присяжных будет составлено табло их имен, и это табло включит по меньшей мере тройное число присяжных от числа, которое необходимо, чтобы вынести решение.
Ст. 5. Присяжные смогут высказываться только в числе 12 по меньшей мере.
Ст. 6. За три дня до начала процедуры в присутствии присяжных, главное табло с их именами будет представлено обвиняемому.
Ст. 7. Обвиняемый и все обвиняемые вместе, если их несколько, смогут отвести без приведения мотивов столько присяжных, о скольких они ходатайствуют, лишь бы их осталось 12. Новый кодекс урегулирует способ, которым данные отводы будут удовлетворяться.
Ст. 11. Обвиняемый будет признаваться виновным только по высказыванию жюри; и судья сможет применить закон и вынести наказания только после того, как присяжные объявят обвиняемого виновным пятью шестыми голосов».
В ст. 15 второго проекта конституционного комитета просто указывалось, что процедура при посредстве присяжных будет иметь место в делах уголовных, и расследование будет производиться публично.
Как видим, проекты конституционного комитета предполагали создание суда присяжных только в делах уголовных.
Дюпор предлагал учреждение жюри как в уголовных, так и в гражданских делах. Проект Дюпора был представлен 29 марта 1790 года в четырех параграфах. Первый параграф предусматривал необходимость декретирования Национальной ассамблеи в качестве статей конституции статей, относящихся к судопроизводству. Статья 2 этого параграфа формулировалась следующим образом: «Будут учреждены во всем королевстве присяжные, чтобы решать вопросы факта, как в гражданских делах, так и в уголовных». Ее дополняла ст. 3: «Вследствие этого ни один приговор не сможет быть вынесен как в области уголовной, так и в области дел гражданских, как только если по факту имеется соглашение сторон или факт решен присяжными».
Второй параграф «Звание присяжных. Формирование табло присяжных» состоял из трех статей, которые предусматривали, что присяжные будут избираться в каждом кантоне первичным собранием; в каждом дистрикте будет каждый год формироваться табло граждан-присяжных в количестве, определенном департаментами.
Третий параграф назывался «Способы функционирования для присяжных в уголовных делах, составленные Дюпором – депутатом Парижа». Данный параграф содержал статьи, относящиеся к жюри по уголовным делам, и критику в отношении проекта Сийеса. Мы приведем его с сокращениями.
«Ст. 1. Сразу после первого расследования, или после восьми дней заточения, если оно будет иметь место, судья будет обязан избрать по жребию из табло присяжных в присутствии двух аджуантов, которые будут назначены с этой целью, присяжных в количестве 18, из которых, по меньшей мере двое должны быть из кантона, из которого представлен подозреваемый в деликте.
Ст. 3. Судья будет обязан собрать без промедления присяжных, имена которых были определены по жребию.
Ст. 4. После произнесенной присяги им представят результаты расследования, записи, вещественные доказательства и протоколы правонарушения, а также все, что может быть приемлемо к освещению их вопроса. Затем они останутся одни, чтобы совещаться.
Ст. 5. В этом совещании они будут использовать их личные знания, затем они взвесят показания свидетелей, большинство в 12 голосов будет необходимо, чтобы решить, имеет ли место обвинение.
Ст. 7. Если жюри решит, что имеет место обвинение, оно будет обязано определить его в ясной, детальной и точной формулировке. Оно выскажется, что такой-то является обвиняемым в факте такого-то рода и в факте злонамеренном.
Ст. 8. Когда жюри решит, что имеет место обвинение, судья вынесет декрет согласно решению по обвинению. Он продолжит расследование дела по просьбе прокурора, и через восемь дней судья будет обязан собрать второе жюри, чтобы решить вопрос о факте обвинения.
Ст. 9. Промежуток времени (названный выше) может быть продлен судьей по просьбе прокурора, он может быть также продлен по просьбе обвиняемого.
Ст. 11. Когда речь пойдет о собрании второго жюри, судья побеспокоится о том, чтобы выбрать по жребию, всегда в присутствии двух аджуантов, 48 имен в табло, он представит их список обвиняемому с указанием их профессии и места жительства.
Ст. 12. Обвиняемый отведет 35 без указания мотивов.
Ст. 14. Если имеется много обвиняемых, они соберутся для отводов; если, однако, их более четырех, список будет увеличен всегда таким образом, чтобы по крайней мере каждый обвиняемый мог отвести 8.
Ст. 17. Вся процедура будет целиком публичной, до решения присяжных исключительно».
Далее речь идет о судебной процедуре.
«Ст. 22. Присяжные тогда удалятся в комнату, где они останутся без права разговаривать и сообщаться с кем бы то ни было; если они желают еще выслушать обвиняемого, они смогут это сделать, но только в присутствии судьи и публики; и это перед тем, как начнется совещание между ними.
Ст. 23. Когда они будут одни, удалившись в комнату, они будут совещаться между собой до того, как придут к соглашению в своих оценках.
Ст. 24. Пять шестых голосов будет необходимо для всякого рода осуждения.
Ст. 25. Присяжные будут обязаны высказаться в одном и том же докладе по всем обвиняемым сразу.
Ст. 26. Доклад присяжных будет всегда точным: такой-то освобожден от обвинения с честью, такой-то совершил то-то, это он совершил злонамеренно или он это совершил без умысла.
Ст. 28. Присяжные смогут тем не менее подробно изложить детали деликта и закончить ходатайством судье объявить, что закон приказывает в данном случае.
Ст. 33. Судьи будут обязаны без промедления официально признать доклад присяжных, если он снял обвинение, и применить закон, если он признает, что обвиняемый виновен.
Ст. 37. Никто не сможет выступать против решения присяжных, но обвиняемый, так же как сторона публичная, сможет апеллировать на приговор судей, и эта апелляция будет принесена большим судьям.
Ст. 38. Большие судьи исследуют, применен ли закон хорошо или плохо. В этом последнем случае они кассируют приговор и направят его другим судьям».
Четвертый параграф содержал план функционирования жюри в гражданских делах, состоял из 27 статей и, по выражению Селигмана, «комбинировал порядки, существовавшие в римском праве, с поверхностным изучением английских порядков».
Дюпор различал в гражданских делах три возможных случая:
1. Когда стороны согласны по факту, судья, играющий роль римского претора, дает сторонам иск формулой права и направляет в трибунал, который и судит по существу.
2. Когда стороны не достигают согласия только по факту, судья выдает формулу факта и отправляет дело присяжным, которые его разрешают.
3. Имеются разногласия и по факту, и по праву. В этом случае судья отделяет вопрос права от вопроса факта, последовательно направляет дело к присяжным, чтобы они постановили свой вердикт по факту, затем дело направляется в трибунал, чтобы применить право к констатированному факту.
Жюри по гражданским делам должно было состоять из 15 человек.
Суд, по мнению Дюпора, должен быть разъездным. Разъезжающие судьи должны вести суд присяжных в дистриктах. Суд присяжных отменял апелляцию, которая, по мнению Дюпора, являлась феодальным пережитком, покоящимся на неравенстве судей. Однако Дюпор предусматривал наличие больших судей, также разъездных, которым будет принадлежать право ревизии.
Сийес представил полный Кодекс судебной организации в 166 статьях. Он пояснил перед своим выступлением, что представленный им проект был составлен в сентябре 1789 года на принципах, принятых в течение долгого времени всеми теми, кто так или иначе размышлял о социальном устройстве. Основы, на которых конституционный комитет хотел установить свою работу в этом отношении, ему показались несовместимыми с его планом. Проект Сийеса был отпечатан и роздан депутатам Национального собрания.
Согласно данному проекту, в каждом департаменте должен быть утвержден трибунал из 12 судей, избранных из юристов. Суд должен находиться в главном городе департамента. Каждый год судьи должны покидать главный город, чтобы осуществлять в дистриктах сессии присяжных. В департаментах должны рассматривать апелляции дистриктов и наиболее важные дела, которые требуют наиболее серьезного судебного разбирательства. Решения в департаментах могут быть апеллированы в другой департамент. В дистриктах должны разбираться наиболее простые и несложные дела. Сийес предложил учредить жюри в обеих областях – уголовной и гражданской. Но наиболее оригинальной частью его проекта являлось его предложение, что все члены жюри должны быть юристами.
Глава 3 проекта называлась «О присяжных». Вкратце мы изложим данную главу.
«Ст. 81. Всякое дело, как гражданское, так и уголовное, принесенное либо в ассизы, либо в палаты трибунала департамента, сможет быть судимо только при посредстве жюри.
Ст. 82. Никакой гражданин не сможет быть призван в жюри, если он не вписан в лист лиц, обладающих возможностью быть избранными, который будет составлен для данной функции.
Ст. 83. Эти лица, обладающие возможностью быть избранными, смогут быть отличаемы под именем советников юстиции. Их лист будет начат электоральным корпусом каждого департамента, который должен собраться в ближайшем мае.
Ст. 84. Затем электоральный корпус позаботится о том, чтобы увеличивать этот лист или уменьшать раз в год, согласно нуждам сферы действия и согласия общественного мнения.
Ст. 85. Эти подлежащие избранию советники юстиции будут взяты среди активных граждан всех первых ассамблей департамента, так чтобы их количество было более чем достаточно для требуемого, во всех областях компетенции, но особенно для главных городов дистриктов и департаментов.
Ст. 86. Что касается настоящего и до того времени, как Франция уничтожит различные кутюмы, которые ее разделяют, и когда новый полный и простой кодекс вступит в законную силу для всего королевства, все граждане, известные сегодня под именем людей закона и в настоящее время служащие в этом качестве, будут по праву вписаны в табло избираемых для жюри.
Ст. 87. Но занесение юристов (людей закона), установленное предыдущей статьей, не должно препятствовать, даже для этого года, внесению граждан, которые по их учености и их мудрости покажутся избирателям способными хорошо выполнять функции советника юстиции.
Ст. 88. Когда люди закона, вписанные в табло на основании ст. 86, будут призваны в жюри, они будут оплачиваемы по их вакансии так же, как судьи, из доходов жалующихся, и это продолжение судебных издержек будет иметь место до установления нового Гражданского кодекса.
Ст. 89. Избрание людей, не являющихся юристами, для табло советников юстиции будет проводиться по следующей форме.
Ст. 90. В электоральном собрании департамента выборщики, делегированные одним и тем же дистриктом, будут иметь совместное право представить лиц из их дистрикта, подлежащих избранию; но не один гражданин не сможет быть представлен ими, как только получив две трети голосов.
Ст. 91. Имена представителей будут все внесены в лист по порядку; этот лист будет вывешен по крайней мере в течение двух суток в зале собраний.
Ст. 92. В момент голосования все выборщики соберутся, чтобы написать свои билеты, имена представителей будут им прочитаны громким голосом, согласно порядку, в котором они расположены в выставленном листе; после каждого имени будет отчетливо произнесен его номер.
Ст. 96. Чтобы представители, которые прошли голосование, были допущены в табло советников юстиции департамента, нужно будет, чтобы против них не выступила треть от всего количества голосующих.
Ст. 99. Формирование жюри принадлежит прокурору-синдику департамента, или, за его отсутствием, прокурору-синдику дистрикта, или, за отсутствием такого, прокурору-синдику коммуны, где должен быть вынесен приговор.
Ни один судья ни в коем случае не может формировать сам жюри.
Ст. 100. Для гражданского процесса жюри будет состоять из 18 членов, для уголовных из 27.
Ст. 101. Прокурор-синдик, который будет формировать жюри, составит его, насколько это будет возможно, из советников юстиции, располагающихся в месте, где должен проходить процесс. Он будет также заботиться о том, чтобы выбрать членов жюри среди пэров обвиняемого или заявителя (жалобщика), так сказать среди граждан, которые находятся в положении, похожем или аналогичном по обязанностям, по удаче, по общественным связям, и которым вследствие этого характерные признаки рассматриваемого случая должны быть лучше известны.
Ст. 102. Если одна из сторон является иностранцем, прокурорсиндик составит, насколько это возможно, жюри наполовину из иностранцев, и всегда, если есть выбор, согласовывая отношения пэрства или паритета со стороной, подлежащей суду.
Ст. 103…Так как различие между юристами, внесенными по праву в табло, и гражданами, вписанными по выборам, останется, прокурор-синдик будет обязан составлять жюри из советников этих двух классов в следующей пропорции.
Ст. 104. Для гражданского процесса жюри будет составлено в пяти шестых из юристов, это 15 из 18, и шестая часть из выбранных советников.
Для уголовного процесса большая часть будет составлена из людей закона – 14 из 27.
[Ст. 105 и 106 посвящены организации работы жюри до 1 июня 1790 года.]
Ст. 107. Процесс, который начнется после наступления первого июня, будет предусматривать решение жюри. Будет установлено жюри двух видов: одни присяжные будут назначены для конкретного дела, другие будут призываться, чтобы принимать решение по целому списку процессов, этих присяжных будут отличать под названием общего жюри.
Ст. 108. В ассизах каждым судьей будет востребовано одно или несколько общих жюри, соответственно тому много списков или один список потребуется в соответствии с делами, принесенными данному судье.
Ст. 109. В палатах трибунала также будут воспроизводиться согласно притоку дел время от времени списки процессов, по которым будет требоваться общее жюри.
Ст. 110. Будет востребовано жюри, в частности во всяком деле уголовном, предполагающем телесное наказание, и в гражданском процессе большой важности, когда жалобщики вместе или одна сторона согласятся увеличить предварительный вклад согласно таксе, отмеченной в регламенте канцелярии. В этом последнем случае сторона, которая откажется увеличить предварительный вклад, не будет обязана возмещать это увеличение, если она потерпит неудачу.
Ст. 111. Суды будут обязаны представить без задержки лист общего или частного жюри обвиняемому или жалобщику.
Ст. 116. Среди дел, которые отмечены ст. 54 под именем дел трибунала, те, которые по их природе требуют долгого и трудного расследования, и те, которые либо в силу запутанности старых законов, либо в силу сложности старой процедуры, требующих многочисленных дискуссий и писанины, потребуют участия жюри, обязательна предварительная формальность.
Ст. 117. Эта формальность, предписываемая жюри, состоит в том, что для такого рода дел жюри должно разделиться на две части. Одна часть становится советом расследования, другая – советом дискуссии.
Ст. 118. Совет расследования будет составлен из двух членов жюри и судьи – директора дел. Другие члены жюри сформируют совет решения. Советники расследования процесса не сохранят право голосования ни для одного из решений в деле.
Ст. 119. Совет расследования или, за его отсутствием, судья – директор процесса будет расследовать дело, после достаточного расследования дела анализировать и размещать в порядке все вопросы факта и права, разрешение которых должно естественно вести к финальному решению процесса.
Ст. 120. Хотя бы этот анализ, почти всегда ясный в уголовном деле, становится часто очень сложным и неясным в деле гражданском, однако по аналогии в развитии всех процессов судья и совет расследования будут стараться его произвести. Они будут сознавать, что в области дел гражданских, как и в области дел уголовных речь идет сначала о том, чтобы выявить факт в его действительности, затем различить, в чем факт противен закону; наконец указать того, кто в этом ответствен и кто может претерпеть наказание или должен выплатить репарации, предусмотренные законом.
Ст. 121. Если во многих вопросах в области дел гражданских особенно зачастую очень трудно и в некоторых случаях невозможно тщательно разделить вопросы факта и права, судья и совет расследования не упадут духом. Они обратят внимание, что настоящий декрет подчиняет все вопросы без исключения, вопросы факта, вопросы права, смешанные вопросы факта и права до вопроса об уголовном наказании включительно, последовательному решению жюри, и что важно установить правильный ход, который наиболее уверенно, серией хороших вопросов ведет к верному завершению дела.
Ст. 122. Таким образом, после того, как дело расследовано перед жюри, будет должным судье или совету расследования, совместно с судьей поставить вопросы, по которым будет требоваться решение жюри. Эти вопросы будут формулироваться всегда в наименьшем требуемом числе, без вреда ясности и верности решения. Судья будет выглядеть скорее как директор юстиции, обязанный законом заставлять, отправлять правосудие, в отличии от судьи старого порядка, который отправлял его сам.
Если звание судьи в отношении него сохраняется, то потому, что ему предстоит выносить приговор.
Ст. 124. Жюри не сможет вынести решение, если количество голосующих менее в области дел гражданских 10, в области дел уголовных 15.
Ст. 125. В области дел гражданских все вопросы разрешатся при большинстве голосов.
Ст. 127. В делах уголовных всякий вопрос может быть разрешен только при большинстве – 10 голосов из 15, 11 из 16 и 17, 12 из 18 голосующих, также и вопрос наказания, если речь идет о смертной казни, может быть разрешен только при большинстве 12 голосов из 15, 13 из 16 и 17 и 14 из 18 голосующих».
Сийес предлагал следующее деление судов:
«Ст. 33. Будет организован в каждом главном городе департамента трибунал, составленный из 12 судей.
Ст. 34. Эти 12 судей будут выбраны электоральным корпусом способом, который предусматривает одного судью от дистрикта.
Ст. 37. Эти судьи не смогут быть смещены с их места как только вследствие должностного преступления или нарушения служебного долга, установленных приговором суда и еще путем испытания голосованием.
Ст. 38 Испытание голосованием будет проводиться каждый год электоральным корпусом…
Ст. 43. 12 судей разделятся на три палаты, по четыре члена в каждой. Это распределение будет обновляться каждый год по жребию или по соглашению.
Ст. 45. Первая из трех палат будет предназначена для уголовных процессов, две другие – для гражданских.
Ст. 47. Все члены палат, за исключением президента, будут обязаны ежегодно и каждый в свою очередь выезжать в департамент, чтобы держать в главном городе дистрикта и в других важных городах, если они там имеются, судебные ассизы той палаты, от которой они направлены.
Ст. 53. Дела инстанции или апелляции первой инстанции будут разделены на два класса: те, которые должны будут представляться в ассизы, и те, которые должны будут представляться в палаты департамента. Но и тот и другой приговор будут равно окончательными.
Ст. 54. Это различие между делами ассизов и делами трибунала будет установлено по их индивидуальной важности или, что даже реальнее, по трудности расследования. Оставят на компетенцию ассизов все те дела, которые поддаются формам быстрым и эффективным и важность которых не заставляет бояться слишком опасного влияния чувств на толпу.
Дела, расследование которых требует чрезмерных судебных форм или которые представляют наибольшую важность, будут направлены в одну из палат департамента…
Ст. 55. Если, тем не менее, дело ассизов во время расследования приобретет характер дела трибунала, оно сможет быть направлено в одну из палат департамента или по соглашению обеих сторон или по просьбе одной из них, или судьи ассизов».
Принципиальное отличие плана Сийеса от плана Дюпора состояло в том, что Сийес предлагал вручить судебную власть по большей части юристам. Недостатки такого плана очевидны, достаточно было высказывания Тронше о том, что такие присяжные ничем не отличаются от судей, чтобы этот план не был принят. Но Тронше высказал еще ряд замечаний, в том числе он отметил, что при таком судопроизводстве юристы, количество которых в дистриктах и департаментах незначительно, будут одновременно востребованы и в качестве присяжных, и в качестве советников подсудимых и обвиняемых, что приведет к многочисленным злоупотреблениям.
Однако общей чертой проектов Сийеса и Дюпора являлось введение суда присяжных для дел гражданских. Это предложение было вполне логичным, если учитывать, что судебные порядки Англии во многом служили прообразом для нового судоустройства Франции.
31 марта 1790 года Учредительное собрание, по предложению Барера, предложившего решить сначала предварительные вопросы, которые бы облегчили создание судебной системы, постановило, что оно обсудит и решит следующие вопросы:
1. Устанавливать ли суд присяжных?
2. Устанавливать ли суд присяжных в области уголовных и гражданских дел?
3. Правосудие будет отправляться постоянными трибуналами или судами присяжных?
4. Будет ли существовать несколько ступеней суда или лучше апелляцию отменить?
5. Судьи будут назначаться пожизненно или избираться на определенный срок?
6. Судьи будут избираться народом или назначаться королем?
7. Будет ли прокурор назначаться исключительно королем?
8. Будет ли существовать кассационный трибунал или высшие судьи?
9. Будут ли судить все дела одни и те же судьи или произойдет разделение судебной власти для дел коммерческих, административных, налогов и полиции?
10. Учреждать ли комитет, обязанный представлять Учредительному собранию работу по согласованию принципиальных положений гражданских и уголовных законов с порядком судопроизводства?
В этом контексте и протекало обсуждение представленных проектов.
Ассамблея очень долго колебалась между проектом Дюпора и проектом конституционного комитета, озвученного Туре, который ограничивал вмешательство присяжных лишь уголовными делами. Он доказывал, что в гражданских делах вопросы факта, оставленные на рассмотрение присяжных, практически неотделимы от вопросов права, которые требуют применения профессиональных знаний судьи.
Ламет и Робеспьер требовали судов присяжных и по гражданским делам. Дюпор, желая сохранить суд присяжных для гражданских дел, восприняв частично идею Сийеса, предложил составлять жюри в делах гражданских из юристов.
Проект Сийеса не выдержал долгого обсуждения, достаточно было одного замечания Туре о том, что жюри такого рода, которое было предложено Сийесом, имеет то же происхождение и те же предрассудки, что и судьи. «Члены жюри месье аббата Сийеса не выполняют совсем никаких функций, отличных от функций судей. Они имеют тот же характер и ту же власть. Статья 121 проекта ставит их судьями всех вопросов, без исключения каких-либо вопросов факта, вопросов права, смешанных вопросов факта и права вплоть до вопроса о наказании включительно. Это последнее положение показывает всю его бессмысленность. Они имеют настолько полный характер судьи, что они его (судью) устраняют, для того, чтобы поставить его во главе, чтобы управлять, и который (судья), согласно статье 122, должен смотреться скорее как директор правосудия, обязанного законом заставлять отправлять правосудие, чем как судья старого положения вещей, обязанный отправлять его самостоятельно. Я вижу здесь, что присяжные одни сформируют все правосудие, которое сохранится во Франции; но я не вижу совсем в них жюри в его чистом выражении, в своих признаках, наиболее важных, и особенно в тех чертах, которые мы слышим, которых все мы желаем в области дел уголовных и которых лишить нацию не позволяют нам наши обязанности; это обеспечить свободу разделением функций для приговора факта и приговора о наказании».
Туре обратил внимание и на то, что в проекте аббата Сийеса не предусмотрена возможность для заявителя отвода присяжных, хотя он должен пользоваться этим правом наравне с ответчиком, «поскольку в листе могут оказаться его злейшие враги». В этом случае первоначальное количество присяжных по гражданским делам должно составить 24, для того, чтобы обе стороны могли реализовать отводы.
Кроме того, по мнению Туре, количество людей закона в дистриктах и городах ограничено, а по проекту необходимо представить значительное количество таковых, при этом следует учитывать также, что в процессе должны участвовать советники сторон, судьи, что значительно увеличивает требуемое количество юристов, которое не всегда возможно собрать. Но в случае если требуемое количество наберется, остается еще одна значительная опасность – «не найдется необходимое количество для обновления. Тогда одни и те же люди становятся постоянными членами жюри, и эффект плана станет диаметрально противоположным тем принципам, которые выдвигает теория… Я замечу еще в том же духе, что эффектом неизбежным плана будет концентрация всего влияния судебной власти в классе юристов. Они будут всемогущими по своему количеству в жюри… Присяжные, отданные, таким образом, на милость юристов… которые привнесут туда дух, привычки и предрассудки их старого состояния, смогут ли они нас привести к хорошему и справедливому правосудию?»
Туре также резко выступил против предварительного залога, предлагаемого Сийесом в качестве оплаты правосудия, против неопределенного отличия дел, которые могут быть рассмотрены быстро и являются простыми, и дел, которые являются сложными и требуют значительных усилий. «Я заключаю, что предлагаемое формирование присяжных не имеет выгод настоящего жюри, ни даже трибунала судей и что, сравнимое с этими двумя установлениями, оно представляет особенные неудобства, которые не находятся ни в первом, ни во втором».
Ассамблея очень долго колебалась между проектом комитета и проектом Дюпора. Комитет, в отличие от Дюпора, предлагал учредить институт присяжных заседателей лишь в области дел уголовных. При этом Туре был против учреждения жюри в области дел гражданских.
Шабру выступил с предложением о введении суда присяжных по делам гражданским, ссылаясь на то, что те, кто не изучал римское право, не знают, что 150 законов несут определение слов, еще 3000 законов – интерпретацию фраз. «Комментаторы добавили еще свои версии в эту сложность, и вот мы это имеем, ибо мы все это приняли…». Шабру предлагал отказаться от сложностей римского права, которые не соответствуют современным нравам, и прибегнуть к суду присяжных по делам гражданским, как это происходит в Англии.
Ламет и Робеспьер требовали учреждения института присяжных для гражданских и уголовных судов. Дюпор, восприняв идеи Сийеса, предлагал учредить для гражданских дел суд присяжных из профессиональных юристов.
Дефермон выступил против введения суда присяжных в делах гражданских, заявив, что присяжных в делах гражданских нет нигде, кроме Англии. Ссылаться на возможность установления суда присяжных в делах гражданских только потому, что возможно установить присяжных в делах уголовных, по его мнению, неправильно, так как гражданские споры затрагивают лишь немногих граждан, в то время как дела уголовные касаются всех граждан и интересуют все общество. «В делах уголовных факт является простым, в делах гражданских он не может быть установлен, кроме как при сравнении с законами… Нужно в делах уголовных предпринять больше предосторожностей… Судьи по делам гражданским, избранные народом временно, и являются присяжными. Когда наши отцы имели присяжных во всех областях, их нравы были простыми; мореходство, торговля и связи с иностранцами не существовали. Мы находимся далеко от этого старого состояния, и я не думаю, что мы желали бы туда вернуться».
Гара выступил за введение в области дел гражданских присяжных из юристов, ссылаясь на опыт преторов Древнего Рима, которые отправляли разрешение факта на суд 40 лиц, вписанных в табло.
Данный спор окончательно разрешило выступление Тронше, наглядно показавшего разницу между процессом в Англии, основу которого устные свидетельские показания и судебная практика требовала от присяжных разрешения всего одного конкретного факта, и процессом во Франции, где письменные доказательства играли решающую роль. При этом, как заметил Тронше, данные письменные доказательства также требуют определенной оценки с точки зрения их действительности, что предполагает наличие необходимых профессиональных знаний, а присяжные данными знаниями не обладают.
В таком же духе выступали и иные депутаты. Например, Прюгнон – депутат от третьего сословия бальяжа Нанси, обращал внимание, что в уголовном деле восходят от факта к закону, в гражданском – от закона к факту. «Таким образом в делах гражданских нужно будет поставить судью в первую очередь, присяжных – во вторую очередь».
Был ли разрешен вопрос о присяжных в делах гражданских во Франции окончательно? Как следует из последующих документов, эта мысль некоторое время еще пользовалась популярностью. План конституции, представленной Национальному конвенту 15 и 16 февраля 1793 года (проект жирондистской конституции) в секции 2 главы 10 предусматривал организацию правосудия по гражданским делам. Этому в проекте конституции были посвящены ст. 273–287. Во всех случаях, когда разрешение вопросов по гражданским делам согласно проекту выходило за рамки компетенции мировых судей, граждане должны были выбрать арбитра; при несогласии с решением арбитра граждане должны были обращаться в жюри по гражданским делам. Данный проект детально регламентировал процедуру формирования жюри. Присяжные должны были выбираться на первичных собраниях большинством голосов при квоте: один присяжный на сто граждан. То есть жюри предлагалось формировать из простых граждан.
Данный проект конституции не был принят, однако он демонстрирует развитие юридической мысли в революционной Франции.
Почему во Франции не был введен суд присяжных по делам гражданским? Речи Тронше, Туре, Дефермона, Прюгнона дают об этом общее представление, освещая объективные актуальные причины, не позволявшие ввести суд присяжных по делам гражданским во Франции. Но существовала более глубокая причина – к моменту Французской революции частное право Франции сложилось на основе римского права, которое изучалось в университетах и закладывалось в правовую систему Франции через законодательство, и идей естественного права. Отказ от сложившейся системы, предлагаемый Шабру, был невозможен, поскольку неизбежно повлек бы за собой дестабилизацию всех гражданских правоотношений, сложившихся на данный период.
Но почему тогда оказалось возможным, желательным и настоятельно необходимым введение суда присяжных по делам уголовным?
Это объясняется становлением публичного права в указанный период. Новое публичное право, к которому относилось и право уголовное, требовало новых форм процесса.
Изучение римского права в университетах порождало стремление установить и изложить принципы права. Как указывает Р. Давид, «новая школа, именуемая доктриной естественного права, побеждает в университетах в XVII–XVIII веках. Школа естественного права полностью обновила концепцию права, введя понятие субъективных прав, чуждое римской традиции».
В области права публичного принципы римского права не могли служить образцом, поскольку в Риме не было ни конституционного, ни административного права в современном понимании. Школа естественного права заставила признать, что право должно распространяться на сферу отношений между управителями и управляемыми, между администрацией и частными лицами. Поскольку публичное право только начинало складываться и получило свое широкое развитие после революции, предполагалось, что нормы уголовного права и нормы уголовного процесса вполне позволят осуществлять правосудие при посредстве присяжных.
Кроме того, в делах гражданских отношения являются менее стабильными, чем в делах уголовных, где рассматривается один свершившийся факт. В гражданском судопроизводстве изменение правоотношений может происходить и в ходе судебного разбирательства, в отличие от дел уголовных. Усмотрение судьи является определяющим в делах гражданских, в отличии от дел уголовных.
Почему же тогда в Англии, на которую ссылался Шабру, существовал суд присяжных по делам гражданским?
Ответ заключается в различии судебных систем Англии и Франции.
Судебная система Англии складывалась на основе многочисленных разновидностей исков. Основными для судопроизводства Англии являлись проблемы процедуры и компетенции. Главное для заинтересованных лиц заключалось в том, чтобы найти формулу иска. Все внимание в судебной процедуре было обращено к формулировке вопроса факта для того, чтобы поставить его перед присяжными.
30 апреля 1790 года Учредительное собрание проголосовало за то, что необходимо установить суд присяжных по уголовным делам и не стоит устанавливать суд присяжных в области дел гражданских. Как следствие, было решено установить вторую ступень суда для апелляции. 3 мая 1790 года Конституанта проголосовала за то, чтобы апелляционные суды были постоянными. 5 июля 1790 года, когда дискуссия была в самом разгаре, конституционный комитет представил новый проект, который инкорпорировал модификации, привнесенные Ассамблеей в первоначальные предложения. Этот проект состоял из 14 глав. Закон 16–24 августа 1790 года включил только 12 глав, но главы 13 и 14 были вотированы впоследствии как вспомогательные декреты 2 и 7 сентября 1790 года.
Окончательное голосование закона по судебной организации состоялось 16 августа 1790 года. Данный закон предусматривал судоустройство по делам гражданским. Поскольку в данной области суд присяжных не вводился, мы не будем на нем останавливаться. Однако следует отметить ст. 13 главы 2 данного декрета, где указывалось, что «процедура при посредстве присяжных будет иметь место в уголовных делах, следствие будет публичным и будет иметь место гласность…».
18-26 октября 1790 года Учредительное собрание принимает Декрет о процедуре перед мировыми судьями по делам гражданским.
27 ноября 1790 года, в тот же день, когда Учредительное собрание приняло Декрет о Кассационном трибунале, Дюпор, от имени конституционного комитета и комитета по уголовному правосудию, который был специально сформирован Конституантой после утвердительного ответа на вышеуказанный 10-й вопрос, представил доклад о судопроизводстве по уголовным делам.
7 февраля 1791 года была принята последняя глава закона.
20 января 1791 года Учредительное собрание приняло Декрет об уголовных трибуналах, этот Декрет дискутировался в заседании 19 января 1791 года.
Вот как формировался данный трибунал:
«Ст. 1. Будет установлен уголовный трибунал для каждого департамента.
Ст. 2. Этот трибунал будет составлен из президента, назначаемого выборщиками департамента, и тремя судьями, взятыми по очереди каждые три месяца в трибуналах дистрикта, исключая президента, таким образом, что приговор может быть вынесен только четырьмя судьями.
Ст. 3. Будет также при уголовном трибунале учрежден один общественный обвинитель, равно названный выборщиками департамента.
Ст. 4. При уголовном трибунале будет всегда нести службу комиссар короля.
Ст. 5. Будет существовать также при уголовном трибунале греффиер, названный также выборщиками департамента.
Ст. 6. Общественный обвинитель будет назван на ближайшей сессии только на четыре года и впоследствии на шесть лет, президент будет избран на шесть лет, и тот и другой впоследствии смогут быть переизбраны. Греффиер будет избран пожизненно.
На заседании 19 января 1791 года долго обсуждался вопрос, решаемый данным Декретом: где должен быть расположен уголовный трибунал – в дистрикте или в департаменте.
После решения вопроса о том, что уголовный трибунал будет располагаться в департаменте, Декрет от 11–16 февраля 1791 года устанавливал, что уголовный трибунал будет размещаться в тех же городах, где размещается администрация департамента. Декрет от 30 марта-17 апреля 1791 года провозглашал, что к кандидатурам президента уголовного трибунала и общественного обвинителя при уголовном трибунале предъявляются те же требования, что и к судьям судов дистрикта.
19-22 июля 1791 года Учредительное собрание приняло Декрет о полиции муниципальной и исправительной, в преамбуле данного Декрета указывалось, что Декрет об учреждении присяжных параллельно устанавливает полицию безопасности, которая имеет право арестовывать подозреваемых в преступлениях или деликтах, влекущих наказание телесное или бесчестящее.
20 января 1791 года проект Декрет об устройстве судов присяжных выдвинул Робеспьер. В своей речи Робеспьер подверг серьезной критике предоставленную проектами комитета прокурору-синдику возможность выбирать 200 граждан, среди которых по жребию должны были избираться 12 присяжных, а также возможность быть выбранными присяжными лишь тем гражданам, которые в соответствии с конституцией могут быть избраны в административные органы. В своей речи Робеспьер указывал на значительные недостатки организации суда присяжных, в частности, дискреционные полномочия председателя уголовного трибунала, которые зафиксированы в следующей фразе: «Председатель уголовного трибунала может позволить себе делать все, что он сочтет полезным для раскрытия истины; и закон поручает его чести и совести употребить все усилия на то, чтобы способствовать ее обнаружению».
Робеспьер обращал внимание на то, что по проекту председатель уголовного трибунала назначался на 12 лет, а два судьи, которые направляются в уголовный трибунал в порядке очередности из трибуналов дистриктов, должны меняться каждые три месяца, что приведет к неограниченной власти председателя трибунала. Кроме того, председатель в соответствии с проектом обязан подвергать вновь прибывшего обвиняемого допросу, присутствовать на каждом следствии, руководить присяжными в отправлении их функций, объявлять им вкратце дело, обращать их внимание на главные доказательства, напоминать им об их долге. По мнению Робеспьера, данные полномочия председателя уголовного трибунала являются чрезмерными.
Следует согласиться с тем, что Робеспьер подметил основные недостатки суда присяжных, связанные с началами розыскного процесса в процессе состязательном, в частности, указал на дискреционные полномочия председательствующего в процессе. В самом деле, обязанность, возлагаемая законом на председательствующего, устанавливать истину никак не соответствует духу состязательного процесса. Не лишено смысла и указание Робеспьера на ущербность выбора присяжных лишь среди граждан, обладающих правом быть выбранными в административные органы, поскольку в данном случае право суда над гражданами предоставляется лицам, которые имеют право управлять гражданами, вряд ли такой суд можно признать судом равных. Приведем проект, представленный Робеспьером.
Выборщики каждого кантона будут ежегодно собираться для избрания большинством голосов 6 граждан, которые в продолжение года будут призваны к отправлению обязанностей присяжных.
В директории округа будет составлен список присяжных, названных кантонами.
Окружной трибунал укажет тот из дней недели, который будет посвящаться собранию жюри обвинения.
За неделю до этого директор жюри распорядиться о взятии по жребию в присутствии публики 8 граждан из списка тех, которые будут избраны всеми кантонами, и эти 8 составят жюри обвинения.
Когда жюри соберется, оно принесет в присутствии директора жюри следующую присягу: «Мы клянемся рассматривать с тщательным вниманием свидетельские показания и документы, которые будут нам представлены, и высказаться в отношении обвинения согласно со своей совестью».
Затем им будет вручен обвинительный акт; они будут рассматривать документы, выслушивать свидетелей и совещаться между собой.
Они затем вынесут свое решение, которое будет гласить, имеются или нет основания к возбуждению обвинения.
Для вынесения решения о том, что имеются основания к возбуждению обвинения, нужно будет единогласие.
Будет составлен общий список всех присяжных, которые будут выбраны во всех округах департамента.
Из этого списка первого числа каждого месяца председатель уголовного трибунала, о котором будет сказано ниже, распорядится взять по жребию 16 присяжных, которые будут составлять жюри приговора.
15-го числа каждого месяца при наличии какого-либо дела, подлежащего разбору, эти 16 присяжных будут собираться по приглашению, которое им будет послано.
Обвиняемый сможет отвести 30 присяжных без указания какой-либо причины.
Он сможет отвести сверх того всех тех, кто будет участвовать в жюри обвинения.
Уголовный трибунал будет учрежден каждым департаментом.
Этот трибунал будет составлен из 6 судей, назначаемых через каждые 6 месяцев по очереди из числа судей окружных трибуналов.
Председатель уголовного трибунала, обязанности которого будут определены, будет избираться через каждые два года выборщиками департамента.
Помимо обязанностей судьи, которые являются для него общими с другими членами трибунала, на него будет возложена обязанность избирать по жребию присяжных, созывать их, излагать им дело, которое они должны рассматривать, и руководить следствием.
Он сможет по просьбе и в интересах обвиняемого разрешать или приказывать то, что могло бы быть полезным для выявления невиновности, если бы даже это было вне обычных форм судопроизводства, определенного законом.
Общественный обвинитель будет назначаться через каждые два года выборщиками департамента.
Его обязанность – ограничиться преследованием преступлений, согласно обвинительным актам, принятым первыми присяжными.
Король не может направлять ему никакого приказания о преследовании преступлений ввиду того, что эта прерогатива была бы несовместима с конституционными принципами разделения властей и со свободой.
Законодательный корпус не сможет направлять ему подобные приказания, так как Конституция ограничивает его компетенцию преследованием преступлений об оскорблении нации в трибунале, образованном для их наказания.
Ввиду того, что общественный обвинитель будет назначен народом для преследования от его имени преступлений, нарушающих спокойствие общества, никакой королевский комиссар не сможет разделить с ним ни одной из его обязанностей или вмешаться каким-либо образом в расследование уголовных дел.
Извлечение – статьи, необходимые для замены постановлений Комитетов.
Показания свидетелей будут изложены письменно, если обвиняемый этого потребует; но каково бы ни было их содержание, присяжные обсудят все обстоятельства дела и придут к решению лишь по внутреннему убеждению.
Однако если письменные показания служат к оправданию обвиняемого, присяжные не смогут его осудить, каково бы ни было притом их частное мнение.
Для признания обвиняемого изобличенным совершенно необходимо единогласие.
Апелляция на решение присяжных приноситься не будет, но если два члена уголовного трибунала сочтут, что обвиняемый осужден несправедливо, то он сможет потребовать нового жюри для вторичного рассмотрения дела.
Присяжные будут, как и судьи, вознаграждаться государством за то время, которое они отдадут для несения общественной службы.
Нетрудно заметить, что в проекте Робеспьера присутствуют предложения, несовместимые с принципами устности и гласности, – наличие письменных показаний, которые могут предоставляться в судебное заседание и имеющих особую силу для оправдания подсудимого. Отступление от принципов устности и гласности сделано в пользу подсудимого, однако ставит в невыгодное положение сторону, преследующую преступление, поскольку данная сторона никак не сможет исследовать представленные показания непосредственно, не прибегая к явке свидетеля в судебное заседание. Особенное внимание Робеспьер уделил единогласию при вынесении обвинительного вердикта, хотя для вынесения оправдательного вердикта такого единогласия не требуется. Здесь наблюдается одностороннее подражание судебным порядкам Англии, где единогласие на тот момент требовалось и для обвинительного, и для оправдательного вердикта. Вполне объяснимое духом времени, предложение Робеспьера на деле поставило бы общество, преследующее преступника, и самого преступника в заведомо неравное положение, предоставляя второму неоправданные ничем льготы.
Предложения Дюпора, ограниченные и откорректированные Конституантой, прошли уже почти без изменения в Конституции 1791 года, которая была принята 3 сентября 1791 года и посвятила многие статьи уголовной юстиции. Непосредственно суду присяжных была посвящена ст. 9 параграфа 5 главы 3: «В области уголовных дел всякий гражданин может быть судим только по обвинению, вынесенному присяжными или декретированному Законодательным корпусом, в случаях, когда ему принадлежит право преследования. После предания суду факт будет признан и объявлен присяжными. Обвиняемый будет иметь возможность отвести до 20 присяжных безмотивно. Присяжные, которые объявят факт, не смогут быть в числе, меньшем 12. Применение закона будет выполнено судьями. Следствие будет публичным, и не смогут отказать обвиняемому в помощи защитника. Всякий человек, оправданный законным составом присяжных, не сможет больше быть задержанным или обвиненным по тем же фактам».
Окончательное голосование по всему Закону об уголовном судопроизводстве состоялось 16 сентября 1791 года. Статьи Конституции были конкретизированы в Законе 16–29 сентября 1791 года, посвященном уголовной юстиции, и в Инструкции 29 сентября 1791 года, которая являлась комментарием закона.
Дела о преступлениях, влекущих наказание позорящее и телесное, находились в компетенции полиции безопасности и судов присяжных. Дела о преступлениях, подсудных суду присяжных, проходили в три стадии. Дело начиналось в кантоне суммарным расследованием, которое производилось мировым судьей в качестве органа судебной полиции. Мировой судья приступал к расследованию в большинстве случаев по заявлению потерпевшего или по заявлению лица, лично не заинтересованного в преследовании преступника (доносу). Мировой судья по установлению Учредительного собрания концентрировал в своих руках судебную полицию. Этот магистрат призывал к себе подозреваемого мандатом о приводе, прибегая в случае нужды к публичной силе. Он проводил на первом этапе допрос подозреваемого, расследование, выслушивал свидетелей, квалифицировал деяние. Если он считал, что необходимо дальнейшее судебное преследование, он арестовывал подозреваемого, предъявляя мандат об аресте. Мировой судья был обязан получить показания свидетелей, названных заявителем, и составить, по его требованию, протокол. Если мировой судья отказывал в расследовании, заявитель мог обратиться в жюри обвинения.
Подозреваемый в этом случае направлялся в дистрикт, где магистрат, именуемый директором жюри, выполнял функции, которые имели некоторую аналогию с функциями судьи-следователя. Директор жюри обвинения продолжал следствие, начатое мировым судьей в кантоне, он был обязан допросить обвиняемого. Он исследовал обвинение и предлагал трибуналу дистрикта либо прекратить дело, если обвинения были недостаточны, либо передать обвиняемого на суд жюри обвинения. Директор жюри составлял обвинительный акт, который он представлял на рассмотрение жюри обвинения. Перед тем как обвинительный акт передавался на рассмотрение жюри обвинения, он должен был быть представлен комиссару короля, который визировал акт словами «Закон разрешает» или «Закон запрещает». Во втором случае директор жюри обвинения мог обратиться для разрешения вопроса в трибунал дистрикта. Директор жюри председательствовал в жюри обвинения, которое составляли присяжные заседатели числом 8. Каждые три месяца прокурор-синдик представлял лист с 30 гражданами, выбранными среди всех граждан дистрикта, для выполнения функций членов жюри. При согласии с представленным листом директор жюри обвинения, клал имена 30 граждан в урну в присутствии публики и комиссара короля и вытаскивал из урны имена 8 граждан.
Жюри обвинения собиралось в закрытом судебном заседании под председательством директора жюри обвинения, который докладывал присяжным жюри обвинения фабулу дела, вручал документы, относящиеся к процедуре, за исключением письменных показаний свидетелей, поскольку свидетели, доносчик или заявитель (жалобщик) должны были выслушиваться устно.
После ознакомления с материалами дела и выслушивания свидетелей в отсутствие обвиняемого жюри обвинения решало, имеет или не имеет основания обвинение. Жюри для решения данного вопроса оставалось одно, без директора жюри, под председательством самого старшего из них по возрасту.
Жюри обвинения решало вопрос либо об оправдании обвиняемого, либо о передаче его на суд присяжных для разрешения дела по существу. Решение жюри принималось простым большинством голосов, которое записывалось под актом обвинения в следующих формах: «Да, оно имеет место» или «Нет, оно не имеет места». Если жюри утверждало обвинительный акт, то дело передавалось в департамент, на рассмотрение уголовного трибунала, состоявшего из трех судей и председателя, а также из 12 присяжных заседателей. Кроме того, в трибунале, как указано выше, находились комиссар короля, осуществляющий надзор за законностью, и общественный обвинитель, который осуществлял поддержание обвинения.
Перед судебным заседанием в течение 24 часов после прибытия обвиняемого в арестный дом, обвиняемого допрашивал председатель трибунала в присутствии общественного обвинителя. Он имел право продолжить следствие. Затем происходило формирование жюри обвинения.
Скамья присяжных составлялась следующим образом: из числа лиц, пользующихся избирательными правами, занесенных в специальный регистр дистрикта, прокурор-синдик департамента выбирал 200 имен, которые вносились в сессионный список после представления директору департамента и утверждения. В первый день каждого месяца президент уголовного трибунала, в прямые функции которого это входило, составлял список жюри суда для сессии. Из этого списка, без указания мотивов, общественный обвинитель мог отвести 20 имен. Записки с обозначением остальных имен опускались в урну, из которой наудачу вынималось 12 имен. Список этих лиц предоставлялся подсудимому, который мог без указания мотивов отвести 20 человек. Каждое отведенное лицо заменялось другим по жребию. После отвода 20 лиц подсудимый имел также право мотивированного отвода. Основательность такого отвода обсуждалась судом.
Судебный процесс протекал в соответствии с четырьмя принципами:
– устность судебного следствия;
– оценка доказательств по внутреннему убеждению;
– публичность;
– состязательность.
Когда обвиняемый представал перед судом присяжных, функцию уголовного преследования брал на себя общественный обвинитель. Комиссар короля ходатайствовал о назначении наказания после вердикта присяжных и приносил кассационный протест в случае нарушения закона. Состав суда, в узком смысле этого слова, состоял из председательствующего и троих судей-асессоров, которые являлись судьями на уровне дистрикта, в состав суда включался также общественный обвинитель, хотя он осуществлял функцию преследования.
Рядом с трибуналом заседало жюри приговора – скамья присяжных, которые были обязаны высказываться по вопросу виновности или невиновности подсудимого.
Сама процедура суда присяжных протекала следующим образом: секретарь читал обвинительный акт, председательствующий обращался к обвиняемому со словами «Вот, в чем Вы обвиняетесь, сейчас Вы услышите те доказательства, которые имеются против Вас». Затем общественный обвинитель вызывал для допроса свидетеля, затем вызывал свидетелей защиты. Обвиняемый имел право делать замечания по показаниям свидетелей, которые он считал полезными. Обвиняемый также имел право вызывать свидетелей, чтобы подтвердить свою честность. Затем общественный обвинитель ходатайствовал о признании обвиняемого виновным в конкретном составе преступления, защита отвечала по ходатайству общественного обвинителя. Дебаты заканчивались резюме председательствующего. Присяжные удалялись для совещания. Для обвинительного приговора необходимо было большинство в 10 голосов из 12.
Присяжные голосовали последовательно по следующим вопросам:
1) Имело ли место событие преступления?
2) Действительно ли обвиняемый уличен в совершении преступления?
3) Совершил ли он его намеренно?
4) Имеются ли обстоятельства, освобождающие от наказания, или обстоятельства, смягчающие наказание?
Для ответов на каждый вопрос были предусмотрены две урны – белая и черная. Если ответ был благоприятен для подсудимого, он помещался в белую урну, в противном случае – в черную. Процедура подачи голосов присяжными была регламентирована детально в Инструкции, которая сопровождала издание Закона. Голоса отбирались в совещательной комнате одним из судей трибунала по совместному поручению председателя и королевского комиссара. Присяжные должны были по очереди, начиная со старшины присяжных, каждый в отсутствие других, «положа руку на сердце» высказать свое мнение и вслед за тем положить в урну соответствующий шар.
В случае осуждения присяжными после публичного объявления об их вердикте, королевский комиссар должен был представить свое заключение о применении наказания, после предоставить слово обвиняемому или его защитнику. Они не могли больше жаловаться на ущербность оценки фактов, но могли обжаловать правильность квалификации преступления или соразмерность наказания, которое требовал комиссар короля.
Для установления наказания производилось голосование судей. Данное голосование было публичным, каждый из судей, начиная с младшего, должен был громко высказать свое мнение о мере наказания. Решение жюри не обжаловалось. Право кассации было предоставлено осужденному и комиссару короля, кассация подавалась в трехдневный срок. В случае оправдания комиссар короля имел только 24 часа для кассационного обжалования.
Если судьи трибунала приходили к единодушному заключению о том, что присяжные вынесли обвинительный приговор ошибочно, к 12 присяжным заседателям добавлялись еще трое, после чего обвинительный приговор мог быть вынесен лишь при большинстве в 4/5 от общего количества голосов.
Организация жюри строилась на четырех фундаментальных пунктах:
– способ набора членов жюри совмещал судебную власть и право выбирать;
– процедура вопросов, которые вследствие анализа каждого пункта обвинения вели к запутанности и погрешностям;
– большинство в десять голосов, требуемое для обвинительного вердикта;
– система наказаний, зафиксированных строго в законе, которая препятствовала индивидуальной оценке совершенного деяния.
Нас интересует, в полной ли мере Закон 1791 года разделил вопрос права и вопрос факта. Как следует из текста Закона, судьи могли сомневаться в том, что вопрос факта присяжными разрешен правильно, вследствие чего могли передать дело на повторное рассмотрение с добавлением трех присяжных, т. е. законодатель опасался возможной ошибки со стороны присяжных в определении того или иного факта.
Как показывает практика суда присяжных, наиболее слабые и уязвимые места при таком способе судопроизводства кроются как раз в тех институтах, которые связывают элемент профессиональный с элементом непрофессиональным. К данным институтам относятся напутственное слово председательствующего – резюме, решение процессуальных вопросов и способ исследования доказательств в ходе судебного разбирательства, вопросы, представляемые присяжным судом, последствия вердикта присяжных.
Глава 7 Декрета, касающегося полиции безопасности, уголовной юстиции и установления присяжных, была посвящена исследованию и внутреннему убеждению, она регулировала постановку вопросов и порядок их разрешения:
«Ст. 19 Президент резюмирует дело, напоминая присяжным главные доказательства как “за”, так и “против” обвинения; он закончит, напоминая им с простотой функции, которые они должны выполнить и поставив ясно различные вопросы, которые они должны решить относительно события, его автора и намерения (умысла).