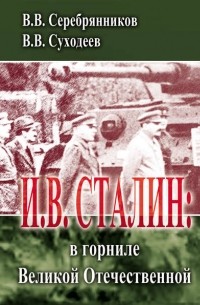Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Особый путь к полководчеству
В Гражданской войне И. В. Сталин проявил себя не только как военный практик-военачальник, но и как глубокий аналитик, исследователь, теоретик проблем войны и мира, вооруженной борьбы, строительства новой армии. Им подготовлено множество аналитических записок, докладов, справок, телеграмм, писем в ЦК партии, лично В. И. Ленину в Совет Обороны, Реввоенсовет Республики с анализом хода сражений на различных фронтах и в целом в войне, предложений по повышению их эффективности, проектов замыслов и решений, организационному изменению фронтов, созданию новых и т. д. Им опубликованы десятки статей в газетах «Правда», «Известия», «Национальное строительство» и др. о военном положении Республики, положении на Кавказском, Южном, Западном, Юго-Западном, Петроградском и других фронтах. Это были не просто заметки или сводки, а обстоятельные материалы, содержавшие новые теоретические и практические выводы. К этому следует отнести выступления по военным делам перед партийными и советскими работниками, трудящимися, войсками, беседы с корреспондентами газет.
О глубине этих материалов многое говорит их структура (поднимаемые вопросы), живая реакция на них. В беседе с корреспондентом «Правды» о положении на Царицынском фронте 30 октября 1918 года освещены вопросы: «Важность Южного фронта, Царицын как центр удара, В чем сила нашей армии». В материале «О Петроградском фронте» (8 июля 1919 года): «Подступы к Петрограду, Силы противника, Расчеты противника, Положение на фронте, Флот, Итоги». В беседе «О положении на Юго-Западном фронте» (11 июля 1920 года): «Прорыв, Результаты прорыва, Судьба третьей польской армии, Положение на Фронте, Выводы, Крымский фронт».
Сталин внес существенный вклад в осознание особенностей Гражданской войны в стране, осуществляющей переход от капитализма к социализму. Характер этой войны отличается крайней остротой вооруженного противоборства между силами революции, сторонниками новой Советской власти и силами контрреволюции, стремившимися к возвращению себе утраченных власти и привилегий, восстановлению свергнутых народом порядков. Главным источником крайней остроты борьбы, безудержного насилия в этой войне, подчеркивал Сталин, является абсолютная нетерпимость к революционным переменам в жизни России со стороны международных и внутренних сил старого мира, выступавших заодно.
Главным генератором Гражданской войны в России был Запад, она была «навязана России Антантой», без приказов и помощи со стороны хищников мирового империализма внутренняя контрреволюция не была способна на серьезную войну против Советской власти. Уже тогда Сталин подчеркивал постановку крайней цели империалистами в борьбе против Советской России: они не могут жить на земле вместе с Советской Россией; они ставят вопрос только так, что Советская Россия должна непременно погибнуть «для того, чтобы утвердился мир на Земле». Это понимание конечной цели империалистов в отношении нашей страны подтвердилось всей историей XX века. Контрреволюционные военные силы несли с собой ярмо помещика и капиталиста, а также ярмо иностранного империалистического рабства. Этого не могло принять большинство нашего народа [13].
Неправильно считать, что большевики с самого начала определили истребительный характер Гражданской войны. Тот факт, что буквально с первых боев и сражений война приняла исключительно жестокий характер, связан прежде всего с людоедскими установками и действиями войск интервентов, воспринятых белыми войсками как норма и пример для подражания. Разгул стихии в стране, ужасные социальное, экономическое, продовольственное положение, озверение миллионных масс, прошедших через Первую мировую войну, не могли не вызвать ответной жестокости и мщения со стороны тех, кто боролся за Советскую власть, провозгласивших лозунг «Смерть или победа!». Стремление контрреволюционных сил к полному уничтожению плодов социалистической революции, жизненно важных для страны и народа заставило и советскую сторону действовать крайне решительно и жестоко. Высочайшая степень ненависти и вражды сторон друг к другу сказывались на всех аспектах Гражданской войны, действиях противостоящих вооруженных сил.
Социально-классовый, политический смысл войны, т. е. самые крупные конечные политические цели сторон предполагали максимальную мобилизацию ими сил, средств и энергии людей, имевшихся в их лагерях. Сталин отмечал, что большая часть сил, энергии, средств Советского государства в ту пору отдавалось войне: военные дела составляли 9/10 всех дел, которые оно осуществляло. Главными лозунгами были: «Все для войны!», «Все для фронта!», «Все для Красной Армии!», «Все для победы!».
Характер войны определялся особенностями вооруженных сил, степенью и размерами поддержки их со стороны общества, его различных социальных групп, классов, партий. С самого начала и на протяжении всей Гражданской войны Сталин уделял пристальное внимание принципу классового подхода к формированию личного состава РККА, командного состава, определяющей роли в воинских коллективах передовых рабочих, членов компартии. Он многократно подчеркивал необходимость того, чтобы система мобилизации граждан и формирования воинских частей обеспечивала строительство не «общенародной», а рабоче-крестьянской армии, состоящей из рабочих и крестьян, не эксплуатирующих чужого труда (выдел. – И. В. Сталин). Они «единственно пригодные для красноармейской службы» [14]. Имущие, выходцы из кулачества – богатого крестьянства, эксплуатирующего чужой труд, являются ненадежными, проявляют явно контрреволюционные настроения, сдаются в плен, переходят на сторону врага, трудно поддаются дисциплинированию и т. д. Он пресекает действия органов формирования армии, направляющих всех мобилизованных в войска без разбора.
Подчеркивая самоотверженность и преданность рабочих, он отмечал необходимость особой работы с выходцами из крестьян, не эксплуатирующих чужого труда – бедняков и середняков. «…Нерабочие элементы, которые составляют большинство нашей армии – крестьяне, не будут добровольно драться за социализм. Целый ряд фактов указывают на это, – говорил он на VIII съезде РКП(б) в марте 1919 года. – Ряд бунтов в тылу, на фронтах, ряд эксцессов на фронтах показывают, что непролетарские элементы, составляющие большинство нашей армии, драться добровольно за коммунизм не хотят. Отсюда наша задача – эти элементы перевоспитать в духе железной дисциплины, повести их за пролетариатом не только в тылу, но и на фронтах, заставить воевать за наше общее социалистическое дело и в ходе войны завершить строительство настоящей регулярной армии, единственно способной защищать страну» [15].
Сталин хорошо понимал отличие настоящего рабочего от мелкого производителя, каковым в деревне вступал крестьянин – бедняк и середняк. Они зачастую стремятся отстоять свое существование, сохранить наличный социальный порядок и даже повернуть его вспять, нередко борясь против рабочего. Он показывал, что выходцы из служащих также зачастую ближе к эксплуататорам, ибо кормятся за счет прибавочной стоимости и могут быть по одну сторону баррикад с ними.
Только рабочий класс – последовательный борец за социализм. И счастьем России, огромной полуфеодальной страны, было то, что в ходе долгой классовой борьбы он сформировался как высоко активный, сплоченный и чрезвычайно боевой класс, способный вести за собой большинство трудящихся. Его представители цементируют войска, вливаясь в ослабевшие части и подразделения они словом и примером обеспечивают перелом, осуществляют, ломают уныние, вызывают боевой подъем и героизм.
Не умаляя важности привлечения военных специалистов старой дореволюционной армии в строительстве и управлении РККА, Сталин упорно искал и смело выдвигал командиров из бывших солдат, прошедших Первую мировую войну и хорошо знающих военное дело, считая, что именно они, совершенствуясь, в перспективе будут определять боевые качества и дух красного воинства.
В период Гражданской войны Сталин был одним из нескольких самых выдающихся политических деятелей, которые обладали обширнейшими и глубочайшими познаниями социально-политической жизни страны, особенностей основных классов, отношений между ними, их коренных интересов, определявших настроения и поведение. Являясь одним из руководителей Великой Октябрьской социалистической революции, определявших ее стратегию, организовывавших победные действия компартии, рабочего класса, ведших за собой десятки миллионов трудящихся, он блестяще знал фундаментальные основы, законы, механизмы, средства и способы классовой борьбы. Она даже в своей мирной форме по своей сути, содержанию и ожесточенности столкновений ближе других социальных явлений стоит к войне. Ф. Энгельс отмечал в свое время, что «война между классами происходит независимо от того, ведутся или нет действительные военные действия, и она не всегда нуждается в баррикадах и штыках для своего ведения: война между классами не угаснет до тех пор, пока существуют различные классы с противоположными, взаимно сталкивающимися интересами и различным социальным положением». Именно глубочайшее знание Сталиным классовой борьбы и всего, что с ней связано, политики государства, разных политических партий и классов России позволяло ему уверенно и правильно разбираться в политических и военно-стратегических вопросах гражданской войны.
В его голове сложилась целостная картина социально-политического характера войны (суть, содержание, движущие силы, их взаимодействие, способы ведения, основы организации победы). Сталин, рассматривая те или иные вопросы ведения Гражданской войны, никогда не упускал из вида ее целостной картины, игравшей роль важнейшего методологического инструмента. В этой интеллектуальной модели выделялись три части: общая целостная динамическая модель, а также связанные с ней модели социально-политического характера войны со стороны революционных сил и модели социально-политической войны со стороны антисоветских движений (внутренних и внешних). Сформированный Сталиным облик Гражданской войны выступал своего рода ориентиром, критерием в подходе ко всем явлениям и процессам этой войны.
Политический смысл войны со стороны Советского государства состоял в защите завоеваний Октябрьской революции, социалистического Отечества, свободы и независимости, создание условий для строительства социалистического общества. Политическая цель (смысл войны) обуславливала соответствующую главную цель – разгромить и уничтожить контрреволюционные вооруженные силы, изгнать иностранных интервентов, т. е. полное сокрушение врагов. Это определяло собственно военную стратегию.
К тому новому, что внес Сталин в военную науку, ее общую теорию и военное искусство следует на одно из первых поставить обогащение представлений о взаимосвязи (взаимовлиянии) общесоциальных явлений с военным, и особенно взаимодействии социальных факторов и военного искусства, основных направлениях этого взаимодействия.
Вопрос о зависимости военных установлений (в строительстве армии, обучении и воспитании войск, оценке военной обстановки, разработке и осуществлении замыслов, планов и решений по ведению боевых действий и т. д.) от общесоциальных факторов (социального характера государства, классов, партий, их отношений, идеологии, от изменения социального положения людей и т. д.) был поставлен в новейшей истории в связи с буржуазными революциями, особенно в связи с Великой Французской революцией, войнами Наполеона (XVII–XVIII–XIX века). В научных трактатах буржуазных военных теоретиков выдвигались идеи о влиянии общесоциальных, классовых, политических факторов на войну, на действия войск, военачальников и полководцев. Клаузевиц уже подчеркивал, что военные решения, военные действия определяются общей обстановкой, но прежде всего политической.
Творчество Сталина в этой сфере выражалось в том, что он реально утверждал социальный подход при определении общей и военной стратегии ведения войны, в оценке обстановки, в разработке, принятии и реализации замыслов, планов, директив, решений, формировании, воспитании и сплочении войск, укреплении тыла, путей достижения побед. Социальный подход в этих делах он понимал как непременный учет общей социальной обстановки, «социальной среды» в районах боевых действий (положительного или негативного отношения населения к Советской власти, ее политике, действиям ее войск, а также политике и действиям противника и т. д.), социальной значимости тех или иных фронтов, выборе районов, из которых наносится главный удар по противнику. Социальный подход при принятии стратегического решения по разгрому Деникина в 1919 году с полным основанием считается ярким примером на этот счет. Сталин заблаговременно предупреждал о возможных стратегических поражениях советских войск из-за пренебрежения социальными аспектами военно-политической обстановки: неадекватные оценки социально-политических и военных возможностей противников советской России на Западном (особенно Петроградском) и Восточном фронтах весной и летом 1919 года, при планировании и осуществлении боевых действий против Польши в 1920 году и др.
После нападения Польши на Советскую Россию и успеха красных войск в отражении агрессии у советского главного командования возникла идея мощного стратегического наступления в Европу. Перед Западным фронтом, добившимся наибольших успехов, была поставлена задача не останавливаться на установленной границе, а идти на Варшаву и далее на Берлин, своими действиями катализировать революцию в Европе. Считалось, что польский рабочий класс и низы крестьянства будут встречать с цветами красные войска, что победы РККА вызовут революционный взрыв в Европе, будет обеспечено торжество мировой революции. Эта затея обернулась большой военно-политической катастрофой. Красные войска, оказавшиеся у стен Варшавы, потерпели поражение, только пленными было потеряно около 100000 бойцов и командиров РККА.
Сталин был единственным из членов политбюро ЦК, предупреждавшим, что расчет на революцию в Польше и в Европе несостоятелен, что польский народ национально сплочен, видит в советских войсках агрессора, воодушевлен патриотическими чувствами, а советские войска ослаблены, тылы их отстали от войск, их действия дезорганизованы противоречивыми указаниями сверху. В этих условиях целесообразно остановить наступление, ограничиться изгнанием агрессора с советской территории. Он видел, что тыл польских войск является однородным и национально спаянным. Преобладающим настроением поляков было «чувство отчизны», которое передавалось польскому фронту. Чувства национального единства были сильнее классовых различий, стремления к солидарности с мировым революционным процессом.
Сталин решительно выступал против «марша на Варшаву». 11 июля 1920 года уже после изгнания оккупантов из Киева, в беседе с корреспондентом «Правды» он говорил: «Наши успехи на антипольских фронтах несомненны… Но было бы недостойным бахвальством думать, что с поляками в основном уже покончено, что нам остается лишь проделать «марш на Варшаву». Это бахвальство неуместно не только потому, что у Польши есть резервы, что Польша не одинока, что за Польшей стоит Антанта, всецело поддерживающая ее против России, но прежде всего и потому, что в тылу у наших войск появился союзник Польши – Врангель.
Смешно говорить о «марше на Варшаву» и вообще о прочности наших успехов» [16].
А 23 сентября 1920 года Сталин сделал заявление в Президиум IX партконференции: «Некоторые места во вчерашних речах тт. Троцкого и Ленина могли дать тт. конферентам повод заподозрить меня в том, что я неверно передал факты. В интересах истины я должен заявить следующее:
1. Заявление т. Троцкого о том, что я в розовом свете изображал состояние наших фронтов, не соответствует действительности. Я был, кажется, единственный член ЦК, который высмеивал ходячий лозунг о «марше на Варшаву» и открыто в печати предостерегал товарищей от увлечения успехами, от недооценки польских сил. Достаточно прочесть мои статьи в «Правде».
2. Заявление т. Троцкого о том, что мои расчеты о взятии Львова не оправдались, противоречит фактам…
3. …Западный фронт стоял, оказывается, перед катастрофой ввиду усталости солдат, ввиду и неподтянутости тылов, а командование этого не знало, не замечало. Последовала небывалая катастрофа, взявшая у нас 100000 пленных и 200 орудий. Я требовал в ЦК назначения комиссии, которая, выяснив причины катастрофы, застраховала бы нас от нового разгрома. Т. Ленин, видимо, щадит командование, но я думаю, что нужно щадить дело, а не командование» [17].
Отметим, что тогда Сталин еще не был генсеком, однако возражал не только председателю Реввоенсовета – Троцкому, но и главе правительства – Ленину. Выступление Сталина было вызвано высказываниями Ленина и Троцкого о причинах неудач РККА в польской кампании. Ленин видел эти причины либо в ошибке политической, либо в стратегической. ЦК определил линию политики, за рамки которой не могло выходить военное командование.
В ЦК большинство решило, что для изучения неудачи похода на Варшаву не следует создавать специальную комиссию, как предлагал Сталин, – «пусть прошлое решат историки, пусть потом разберутся в этом вопросе». Сталин полагал, что в интересах дела надо разобраться в этом без передачи его исторической науке на долгий срок.
Сталин был также против утверждений Троцкого, что военное командование действовало исходя из недостаточной разведывательной информации о состоянии польской армии, о преувеличении Сталиным наших наступательных возможностей, слабостей поляков. Это противоречило истине.
Большое значение имели идеи И. В. Сталина о важности учета состояния социальной среды, в которой развертываются боевые действия, а также тыла, понимаемого в стратегических и оперативно-тактических масштабах. «Для успеха войск, действующих в эпоху ожесточенной гражданской войны, – говорил Сталин на открытии II Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока в 1919 году, – абсолютно необходимо единство, спаянность той живой людской среды, элементами которой питаются и соками которой поддерживают себя эти войска, причем единство это может быть национальным (особенно в начале гражданской войны) или классовым (особенно при развитой гражданской войне). Без такого единства немыслимы длительные военные успехи» [18].
Те быстрые переломы, которых он добивался на фронтах, где играл ведущую военно-политическую и стратегическую роль, осуществлялись не только благодаря умелой «починки» («ремонта») фронтов и армий, но и решительных мер по укреплению ближайшего их тыла, очищению его от «антисоветской» скверны, созданию крепкого контакта между тылом и сражающимися войсками. Это – непременное условие достижения серьезных военных побед. Классовое единство живой среды, питающей фронт и непосредственный тыл советских войск, он считал достижимым только за счет всемерной опоры на активность пролетариата, партийных и советских органов, авторитетных для крестьянства и способных на деле сплотить воедино трудящихся в деле поддержки фронта.
Сталин не раз выступал инициатором корректировки политики партии и государства в интересах сплочения трудящихся. Ему принадлежит видная роль в смягчении налога на крестьянство, утверждении курса на союз с середняком, сыгравшим решающую роль в Гражданской войне.
Он в полной мере в определении стратегии и оперативных планов опирался на те преимущества социальной среды, которые были созданы социалистической революцией. Вместе с тем реально учитывал отсутствие у контрреволюции в каждом случае «того минимума единства живой среды, без которого невозможна серьезная победа». Эти социальные минусы для противника он считал необходимым наращивать искусством расшатывания и подрыва его тылов. Считал необходимым сочетать удары с фронта с ударами по его тылам, организации восстаний, партизанских движений и т. д. «Глубокие причины» поражений контрреволюции состояли в ряде роковых социальных минусов для нее и социальных плюсах для революции.
Недооценка социально-политических, классовых, национально-этнических, нравственно-психологических, идеологических факторов может вести и ведет на практике к ущербным стратегическим и оперативно-тактическим решениям, боевым неудачам. Дело в том, что новые социальные, экономические, политические отношения, новая политика, обусловленная революцией, неизбежно влекут изменения в самой войне, способах и формах ее ведения, в военном искусстве.
В анализе влияния социальных факторов на качество войск, общую обстановку, ход и исход боевых действий, деятельность советских учреждений в ближайшем тылу и т. п., использовались методы социологии, политэкономии, географии (включая геополитику), военной науки. Характерно применение методов количественного (социологического) исследования (проведение анкетирования, анализ учетно-отчетных документов, организация широких опросов, изучение и анализ массовых психологических состояний войск и т. д.
Сталин показывал, что военная наука царских времен, как и военное искусство и их носители в лице военных специалистов РККА из офицеров и генералов, нередко недооценивали и упускали значение социальных факторов при решении стратегических и оперативных задач.
Выше уже говорилось, что он рассматривал Гражданскую войну как целое, в котором ход дел на каждом фронте сказывался на других и на общем течение всей борьбы. Известно, что количество фронтов доходило до шести-восьми. Важно было правильно определять значение каждого из них, выделять основные и главный из них. Сталин активно участвовал в оценке военно-политической, геополитической и стратегической значимости фронтов, подчеркивал, что это необходимо для преимущественного сосредоточения усилий, ибо достижение успеха на главном фронте существенно улучшало возможности побед на всех других, ускорение движения к конечной цели вооруженной борьбы. Есть многие документы, свидетельствующие о том, что он верно определял наступление моментов, когда необходимо перенести главное внимание с западного на восточный, с северо-запада на юг, с юга на запад, на кавказский, туркестанский и т. д.