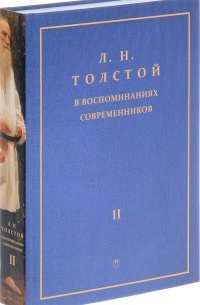Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
В. Н. Давыдов. Из воспоминаний актера
В конце восьмидесятых годов минувшего века, живя в Москве, я получил приглашение от московских студентов принять участие в устраиваемом ими концерте. Я согласился. Но мне не хотелось читать на студенческом вечере ничего избитого и банального. И моя мысль невольно остановилась на толстовской «Власти тьмы», которая ходила тогда по рукам и возбуждала всеобщий интерес, но была еще под запретом для исполнения на сцене.
Мне и засело в голову: нельзя ли прочитать на студенческом вечере какую-нибудь сцену из «Власти тьмы»?
Чтобы осуществить эту мысль, я и решил поехать ко Льву Николаевичу, жившему тогда в Москве, в Хамовническом переулке. Я хотел попросить у него разрешение на публичное исполнение некоторых сцен из «Власти тьмы» и как бы проэкзаменовать себя: так ли я выражаю в своем чтении замысел автора или не так.
Приехал я к обожаемому с детства писателю с большим душевным волнением и вошел в его дом прямо-таки с трепетом.
В передней меня встретил учтивый слуга и спросил: кто я и кого желаю видеть. Я сказал.
Слуга куда-то ушел, и через некоторое время вышел ко мне один из сыновей Льва Николаевича в юнкерской форме. Он тоже спросил меня, кто я и что мне нужно, и, получив ответы, тоже ушел куда-то.
Через минуту вышла жена Льва Николаевича, графиня Софья Андреевна, и подробно начала расспрашивать, с какой целью я приехал. Я все объяснил ей, как мог. Тогда она попросила меня к графу.
Сколько помнится, я прошел через зал, потом по узкому коридору, из которого по лестнице спустился вниз и очутился, наконец, в своеобразном кабинете великого писателя. Кабинет выходил в сад. Дело было зимою, и за окнами белел снег. Помню небольшую с низким потолком комнату, более чем скромно убранную, с небольшим письменным столом и широким клеенчатым диваном. Лев Николаевич сидел за столом в темной блузе, спиною к двери, и что-то писал. При моем входе он обернулся и приветливо встретил меня.
Меня поразили черты его лица. Блестящие, удивительно проницательные глаза, казалось, пронизывали насквозь и охватывали вас всего внутренне и наружно… Чудилось, что от Льва Николаевича не скроешься в своих прегрешениях, как от Саваофа.
Волнуясь и робея, я отрекомендовался. Лев Николаевич улыбнулся, и лицо его вдруг как-то особенно просияло, точно у ребенка. Именно такое милое лицо бывает у детей, когда они после слез вдруг улыбнутся: словно сквозь тучку солнышко проглянет и оживит вас.
– Очень рад видеть, – сказал Лев Николаевич, протянул мне руку и, не выпуская ее, начал поворачивать меня с веселой улыбкой.
– Покажитесь-ка, какой вы революционер?…
Слова эти относились к тому, что я оставил императорскую сцену и перешел в театр к Коршу. Тогда об этом немало говорили как о протесте с моей стороны.
Меня поразила эта фраза. Думаю: господи, когда же он успевает среди своих занятий интересоваться еще и нами, грешными, которые, в сущности, для него ничего особенного не представляют! Между тем он попросил меня сесть и спросил, чем может служить мне?
Я объяснил, в чем дело, что приехал просить у него разрешения на публичное чтение «Власти тьмы» и не согласится ли он позволить мне прочитать в его присутствии некоторые сцены.
Вначале я хотел прочитать разговор девочки Анютки с Митричем и просить Льва Николаевича сделать мне указания, если я прочту что не так.
Лев Николаевич охотно и мило согласился, устроил меня перед диваном, поставил передо мною маленький стол, а сам сел на диван, наискось против меня…
Начал я читать, сильно волнуясь. Но затем овладел собою. И дело пошло, кажется, глаже…
Читаю я и слышу, что среди чтения разговора Анютки с Митричем Лев Николаевич иногда как бы поддакивал мне и произносил одобрительно: «Гм, гм!»
Но когда я начал читать сцену с Никитой (где он ужасается совершенному им) и случайно взглянул на Льва Николаевича, то был потрясен увиденным: по его мнимо суровому лицу катились слезы. В одном месте он даже всхлипнул.
Это меня страшно взволновало, но вместе с тем и одушевило. Значит, я взял верный тон, иначе мое чтение не произвело бы на Льва Николаевича впечатления.
Когда я кончил чтение, Лев Николаевич, приветливый и растроганный, сказал:
– Хорошо… очень хорошо! Откуда вы так хорошо знаете тон русского крестьянина?
Я сказал, что очень люблю наш народ и его песни, которые я изучал на местах в дружеском общении с народом.
– Иногда, бывало, и чарку с ними выпьешь… Изучал я русскую песню и на посиделках… Таким образом я и познакомился с языком нашего народа, – сказал я.
– Да, – произнес Лев Николаевич, – очень, очень хорошо… Аким хорош… Матрена тоже. Но Анютка особенно. Она у вас очень превосходна. Если бы актриса сыграла ее наполовину так, как вы ее читаете, – я был бы очень доволен.
Эти слова очень ободрили меня.
– А вот Митрич, – сказал Лев Николаевич, – он у вас не тот… Не надо забывать, что Митрич побывал в солдатах и в городах, и у него уже иная манера говорить и другое понимание жизни, нежели у деревенских людей ‹…›.
– Лев Николаевич, не будете ли вы так добры, чтобы указать мне, как надо читать Митрича, – попросил я.
Он взял книгу и начал читать так просто, что даже не чувствовалось чтения, а казалось, что говорит сам Митрич. Лев Николаевич сумел взять столь ясный тон, что мне сразу стало понятно, в чем именно дело, как надо читать Митрича и какая разница между ним, Акимом, Петром и другими. Я тут же сделал отметки, которые храню до сих пор, и был глубоко благодарен Льву Николаевичу за его указания ‹…›.