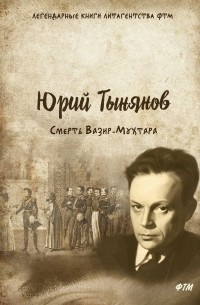Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2
Первый день был маджлес-ширини.
Сидели, заложив правую ногу на левую, на коврах у Самсона, персияне в больших чалмах и цветных носках – джурабах. Какой-то мулла, приятель Самсонов, прочел брачную кебелэ, а прапорщик отвечал, как научил его Самсон:
– Бэли. (Согласен.)
Долго пили шербет из огромных золотых мисочок, ели пушеки и протягивали руки за кальянами, которые угольками раскуривали слуги.
Уходили гуськом, перед лестницей спорили, уступали друг другу дорогу, и никто ни за что не соглашался выйти первым.
Слуги внизу тащили за каждым по огромному мешку пешкешей.
И второй день – вели невесту в баню.
Стреляла из ружей толпа перед банным входом, и кто-то кричал, что дарит невесте десять тысяч туманов, и сотни голосов тотчас же закричали, что отдают их плясунам. Факелы чадили. Зейнаб в белой чадре, окруженная шестью женщинами в синих шелковых чадрах, вышла из бани.
Самсон-хан ждал ее у ворот.
Он взял ее за плечи и толкнул легонько:
– Иди в сад, который дарится тебе. Он был слегка пьян, в богатом халате.
На дворе принесли и бросили к ногам Зейнаб связанного толстого барана с позолоченными рогами.
Баран пыхтел и блеял, бока его ходили.
Мальчишки кричали за воротами, чадили факелы, сотни глаз облепили, как живые уголья, забор.
Самсон отошел несколько.
– Ты ноги распутай-ка маленько, – приказал он кому-то по-русски.
Барана поставили на ноги, он дрожал. Самсон вытащил кривую саблю.
Стиснув зубы и вынося вбок саблю, Самсон сделал два коротких шага к барану.
Он ударил его длинным, свистящим движением между рог, и тотчас мальчишки загалдели, заорали на заборе: он рассек пополам барана.
Кровь забила на белую чадру Зейнаб, в крови были сапоги и штаны Самсона, кровь начала растекаться маленькими ручейками в стороны.
– Багадеранам по рублю жертвую и по две чарки, – сказал Самсон, пошатываясь, и посмотрел мутно кругом.
– Мешок давай сюда, Астафий Василич, – ион стал вынимать из мешка медные деньги и бросать их за двор, в чужие глаза, что светились на заборе.
И двор опустел, слышно было, как за забором дерутся из-за денег и пыхтят, собирая их.
– А теперь в дом пойдем. Дома началось другое.
Маленький старый священник из русской часовни, которую Самсон построил для православных, священник, которого еще тридцать лет назад расстригли в России, певучим голосом прочел о рабе божием Евстафии и рабе божией Зейнабе (он так и сказал: Зейнаба) и, окая, произнес:
– Поздравляю с бракосочетанием законным и здравствовать желаю многие лета.
И ушел так же незаметно, как пришел, с потайного хода.
Пришли наибы и наиб-серхенги: Борщов, Наумов, Осипов, Ениколопов и еще много других русских наибов, и Самсон сказал им:
– Ну, нынче праздник у меня, не обессудьте.
Крепкая кизлярка, безо всяких пушеков, стояла на столе, и наибы пили, и пил Самсон.
– Скучно мне несколько, – сказал он, когда напился. Глаза у него потемнели, губа отвисла.
– Ух, и скучно мне, Астафий, – сказал Самсон и заплакал. – Пей теперь до утра, к жене потом ужо пойдешь. Мальчишник твой.
Пели наибы.
У Борщова был тонкий, чувствительный голос. Он убил на родине двух человек.
Маленький, верткий, щербатый от оспы, он сидел, приложив к груди правую руку и закатив глаза.
– Вот Борщов поет, – сказал что-то такое Самсон, шаря руками, – вот поет как Борщов.
– Что Борщов поет, – жаловался Самсон, – эх, что он такое поет? Я эту песню от него всегда слышу. Не хочу я эту песню, наибы.
Другую запели:
– Деда зови! – кричал Самсон. – Деда зови со двора, пусть ругается, дед-от, ругательство его интересное.
Притащили деда-дворника.
Он поклонился истово хозяину и гостям.
– Яковличу с праздником.
– Пей, дед.
– Я из мирской посуды не пью, я из рабской.
– Неси свою рабскую.
– Вот те новая посудина, не поганая, пей.
Дед выпил до дна и не поморщился. Поклонясь, собрался уходить.
– Ты куда? – спросил Самсон. – Не пущу, ты мне песню, дед, спой, – и мигнул Наумову.
– Горе тебе, город Вавилон, – сказал дед ядовито, – со наложницы.
– Ты стой, каки наложницы?
– Кимвал бряцающий, – сказал дед и икнул маленько.
– Нет, ты говори: каки-таки наложницы? – говорил Самсон.
– И отверже Бога праведного и круг тельца златого скакаше, окаянные. И плясаше, – бормотал дед в бороду.
– Ты выпей, дед, голос прочистишь. Дед пил, не отказывался.
– Дедушко, не умеют плясать наибы мои. Как это казачка пляшут, никто даже не понимает.
Дед был пьян. Кроме того, что он был раскольник, он еще был и горький пьяница.
– Я могу, ты не смейся, что я старый. Дед прошелся:
– Ех, тедрит, тедрит, тедрит…
– Скакаше, – сказал Самсон, – плясаше. Вот тебе и скакаше…
Он встал с места.
– Ех, тедрит, тедрит, тедрит…
Дед приседал на одном месте, а ему казалось, что он ходит по всей комнате.
– Стой, дед, – сказал Самсон, – за твое скаканье тебя нужно сказнить.
Он пхнул легонько его в стену, и дед стал столбиком.
– Сейчас, сейчас тебя казнить будем, – говорил Самсон спокойно.
– Ну держись, Вавилоне. Самсон вытащил пистолет. Скрыплев схватил его за халат.
– Ты что? – спросил Самсон. – Ты кто такой? Он был красен, глаза его были полузакрыты. Скрыплев, пьяный, бормотал:
– Осмеливаюсь указать вашему превосходительству… Самсон уже не помнил о нем.
Он выстрелил.
Дымок рассеялся. Дед столбиком стоял у стены. Над самой его головой чернела дыра.
– Скучно мне, наибы, – сказал Самсон, – уходите теперь. Деда к чертовой матери тащите.