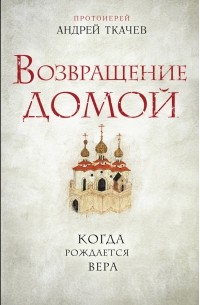Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви
© Ткачев А., текст, 2015
© ИП Идатчикова Л. В., текст, 2015
© ООО «Издательство «Эксмо», 2015
Протоиерей Андрей Ткачев – священнослужитель, писатель, публицист, радиоведущий и миссионер, лауреат Книжной премии Рунета 2013, номинант Патриаршей литературной премии 2014 года.
От редакции
«Перемен требуют наши сердца», – эти слова известной песни Виктора Цоя находили отклик у многих, живших в сложный перестроечный период. Но подобное происходит и с каждым из нас, когда жить по-старому становится невыносимо тяжело, а новая жизнь еще не обретена.
Эта книга – о перестройке души. Она адресована тем, кто готов к благодатным переменам в своем сердце и возвращению под кров Небесного Отца. Автор открывает прикровенную завесу церковной жизни и вводит читателя в благодатный мир Церкви Небесной и земной. Живой рассказ о вере, неизбитые образы, разрешение личностных противоречий и ответы на самые смелые современные вопросы, – все это найдет читатель на страницах нашего издания.
Не покупайте эту книгу, если вы ищете шаблонные рецепты: «Пять шагов к успеху», «Тридцать три молитвы об удаче в жизни» или «Семь семерин чудотворных икон, избавляющих от зла». Нет, от автора этой книги вы услышите только живые слова, выращенные в его сердце силой Духа Божия и подтвержденные собственным опытом церковной жизни.
Откровенность, ум, эрудиция, нелицемерная любовь к Богу и ближнему – вот отличительные черты «пастыря доброго», и все они присущи автору этого издания протоиерею Андрею Ткачеву. Наверное, в этом и залог его популярности: это один из самых пишущих и издаваемых духовных писателей современности, перу которого принадлежит более 30 книг. Наиболее известны из них: «Ступени к небу. Как научиться любить людей», «Путь к жизни. Для тех, кому даровано родиться человеком», «Письмо к Богу», «Тебе и мне Бог письмо написал».
«Возвращение домой. Когда рождается вера» – первая книга из двух, посвященных «азбуке православия», начаткам вероучения. В ней подробно освещены следующие темы: как сделать спасительный шаг к Отчему дому; нужно ли менять свою жизнь, чтобы пойти в Церковь; что изменится в жизни после воцерковления; чего нужно опасаться и верить ли «бабьим басням» в церковной общине; устройство храма, церковный устав и основы богослужения; смысл церковных обрядов и таинств Православной Церкви; молитва в храме и вне его стен. Планируемое продолжение расскажет читателю о годовом круге богослужения: о праздниках, постах и днях особого церковного поминовения.
I. Сделать спасительный шаг
Вера – плод встречи личности и Бога
Вера – это в первую очередь плод благодатного опыта. Это не интеллектуальная установка, не набор философских истин, хотя все это может потом дополнить наше религиозное сознание. Изначально вера – плод встречи личности и Личности. То есть первое условие для возникновения веры – встреча человека, живущего в видимом мире, с Богом, живущим в мире невидимом, метафизическом. Прикосновение одной личности к другой – самое прекрасное, что вообще есть в мире, во всех проявлениях жизни: любви, творчестве, дружбе. И вера – плод благодатной встречи живой души с Живым Богом. Затем вера проходит через осознание разумом: появляется осмысление веры, опыта, выведение общих принципов, правил, но начало вере полагает благодать Святого Духа.
Вера – плод благодатной встречи живой души с Живым Богом.
Отсутствие этой встречи сводит на нет все разговоры с человеком, у которого не было подобного опыта. Можно доказывать свою веру, «рассекать надвое» его ум, «глушить» неопровержимыми доказательствами, но все это, к удивлению, останется бесплодным, потому что человек не будет понимать, о чем идет речь.
В поисках встречи: общаться с Богом напрямую?
Иногда в поисках религиозного опыта человек может броситься в разные оккультные практики: ведь там все кажется простым – съел кактус, и вот тебе встреча с непознанным, «выход в астрал». Это происходит оттого, что люди ищут конкретики: душа жаждет живого опыта, поэтому человек отметает сложные «надстройки» над простым фундаментом Богообщения и обращается к такому, например, опыту, который описан в книгах Кастанеды.
Однако человек, не очистившийся от страстей, не может напрямую вступать в Богообщение. Если он будет искать «выходы на контакт», то первое, что получит, – западню.
У такого поиска есть здравый посыл. Человек не хочет читать сложные богословские трактаты, – такие как «Сумма теологии» Фомы Аквинского, например, – а хочет непосредственно вступать в живое общение, задавать вопросы и получать ответы.
Такое общение возможно, но это плод явленной святости, которая снимает условности, как леса с отремонтированного строения, и позволяет вступать в прямой диалог с Богом.
Чем нас подкупает библейская простота? Тем, что библейские люди ведут себя очень естественно: искренне плачут, когда им плохо; веселятся и шумно пляшут, когда им хорошо. Их сердечное состояние соответствует эмоциональному выражению чувств. Этого совершенно нет в современном человеке. Он устал от условностей, он бунтует против культуры, которая родилась из веры, а затем стала недышащей обложкой нашей жизни.
Только в крайних, экстремальных случаях прямой доступ к Богообщению может получить и человек грешный: та же блудница, тот же мытарь, тот же благоразумный разбойник. Критическая ситуация, будь то опасность, болезнь, физическая или душевная боль, позволяет человеку «возопить» и быть услышанным, как в псалмах говорится: «Возопих ко Господу и Господь услыша мя от горы святыя Своея» (Пс. 3:4). Экстремальная ситуация – одно из условий прямого Богообщения.
При всех благах цивилизации человек не стал защищеннее и счастливее, вокруг по-прежнему много бед и угроз. Наоборот, он стал более нервным, боясь старости, бедности, одиночества, маньяков, обвала доллара… Мы видим, что все сложности, вся хлипкость окружающей жизни провиденциальны: они обнажают человеческие слабости, позволяют в нужный момент воззвать к Богу, создают форму для этого обращения.
Если потом человек захочет общаться с Богом все время, ему придется обратиться к накопленному сокровищу Богообщения прежних времен и веков, к некоей систематизации этого опыта, к знанию того, чего нужно опасаться при этом.
Да, иногда скорби пробивают сердечное окаменение человека – сразу, насквозь, как «Божиим сверлом», по выражению одного из Оптинских старцев. Но обычно сердце наше нужно чистить молитвой, слезами и покаянием.
Радость богопознания
Встреча с Богом обещает нам радость. Я много раз слышал рассказы о подобном от других людей. Вот говорят: «Я купил машину и радуюсь». А я Бога узнал и радуюсь гораздо больше. К машине привык и уже не радуется человек, а я до сих пор радуюсь тому, что обрел веру. Но как я могу передать эту радость? На машине можно дать прокатиться, а эту радость «транслировать» трудно.
Радость всегда неожиданна. В радости всегда есть элемент бескорыстия. Радость естественна, как смех ребенка. Радость сопутствует невинности. Радость – спутник личности. Личность ощущает радость и дарит ее другой личности. Есть в ней и момент жертвенности, но такая радость сопряжена со слезами.
Христос исправляет катастрофу, в которую попало человечество. И получается, что Церковь состоит из тех, кто ощущает эту катастрофу.
В христианской жизни есть опыт радости. Перед службой священник читает у царских врат молитву Нерукотворному образу Спасителя, в которой есть слова: «…радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир». Когда священник облачается в стихарь, он произносит: «Да возрадуется душа твоя о Господе».
Христос исправляет катастрофу, в которую попало человечество. И получается, что Церковь состоит из тех, кто ощущает эту катастрофу – и если не понимает всей ее глубины, то по крайней мере переживает ее вновь и вновь, противоборствуя своему желанию грешить.
Опыт переживания внутренней беды и опыт умиротворения этого хаоса, опыт исцеления болезни, – этот опыт преодоления катастрофы подается человеку в Церкви. Только простой человек переживает это бытийно, а святые отцы могли это изложить так, чтобы это поняли другие. Святой человек отличается тем, что может научить простого человека этому опыту: «Кто сотворит тако и научит, велий наречется в Царствии Небесном» (Мф. 5:19).
Мы обязаны ходить в Церковь?
В наше время человек может откровенно спросить: если есть Бог, есть Церковь и есть Христос, который спас человечество, в том числе и меня, то почему я обязан теперь ходить в Церковь, даже если не хочу?
Прошла та эпоха, когда только люди очень дерзкие и смелые могли высказать подобную «претензию»: я не просил меня творить, не просил спасать, да я и жить вовсе не хочу и жизненный билетик покорно возвращаю, по выражению Ивана Карамазова. Сегодня это умонастроение стало повсеместным и произнести такие слова может каждый.
Хорошо, давайте посмотрим на мир: трехмерное пространство и четвертое измерение – время – это то, в чем живет человек. Воюй не воюй – но этого не изменить. Есть также некая необратимость временного процесса: прошлое всегда позади, а будущее впереди. Воюй не воюй, а это именно так. Если сунуть пальцы в розетку, то обязательно ударит током, огонь всегда будет жечь, а вода увлажнять – с этими данностями трудно спорить.
Примерно такими же являются аксиомы, смиряющие человека – то, что он сотворен и у него есть Творец; то, что за спиной у всего человечества существует темная страница – катастрофа, произошедшая в райском саду, – и что сегодня человек не такой, которым был сотворен или каким должен быть.
Абсолютен факт, что человек – динамическое, изменяющееся существо, он постоянно должен меняться, становиться другим. Он мучается осознанно, когда знает, что должен, но не может чего-то сделать; и не осознанно мучается, когда не знает, чего от него хотят, в чем задача его бытия. Это парадоксальное и мучительное бытие есть человеческий крест, от которого, конечно, можно отказаться. Например – самоубийством. Это самый радикальный способ решения всех проблем – просто прервать жизнь, что для христианина является ошибкой, потому что жизнь не заканчивается, а продолжается. Продолжается и умножается.
Что для неверующего – бегство, для христианина – умножение страданий. Самый решительный христианский ответ на страдания – монашество. Это настоящий бунт против привычности, своего рода самоубийство, но с другим знаком.
Жизнь смиряет человека постоянно: хочу взлететь, а крыльев нет. Можно летать с помощью дельтаплана, самолета, но это не то, это все механические приспособления, а чтобы летать как во сне – такого нет в жизни. И сколько подобных хотений: знать все языки мира; плавать как рыба под водой, – а всего этого нет. Есть дряхлое тело, которое постоянно хочет есть, болеет и должно умереть.
Таким образом, состояние человека – смиренное. А когда человек смирен снаружи, но не смирен внутри, имеет внутренний бунт, – это состояние современного человека. Мы вынуждены общаться с бунтующим человеком, но не в социальном значении, как у Альбера Камю, а в экзистенциальном, – когда человек не хочет жить так, как должен жить. Вот здесь и возникает потребность в христианстве.