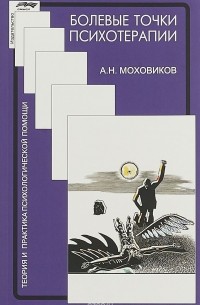Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Серия «Теория и практика психологической помощи»
Редакторы-составители серии Д.А. Леонтьев и А.Н. Моховиков
В оформлении обложки использована гравюра В. Маттойера «Вопреки всему»
© Моховиков А.Н., наследники, 2018
© Издательство «Смысл», 2018
От редакторов
Эта книга представляет собой сборник статей и лекций последних лет Александра Моховикова (1955–2015), ученого, преподавателя, психотерапевта, просветителя, организатора психологической помощи и подготовки специалистов в нескольких важных областях. Безвременная смерть Александра отозвалась болью сотен и тысяч людей, несущих в себе свет его личности.
Александр Моховиков имел богатый послужной список. Получив медицинское образование и сравнительно рано защитив кандидатскую диссертацию, он достаточно быстро выдвинулся в ряд ведущих специалистов на постсоветском пространстве по проблемам суицидологии, подходя к ней прежде всего психологически, через призму понятия душевной боли, публиковался не только на Украине и в России, но и в зарубежных изданиях, развивал контакты с ведущими в мире специалистами. В поисках подходов к профилактике суицидов он занялся вопросами телефонного консультирования, как научно-методическими, так и организационными, и по праву считается одним из основателей служб кризисной телефонной помощи в Украине и России; его фундаментальное руководство «Телефонное консультирование», выходящее сейчас уже четвертым изданием, стало настольной книгой психологических консультантов, не только телефонных.
С конца 1990-х гг. он начал всерьез заниматься психотерапией, в частности гештальттерапией. История его отношений с гештальттерапией отражена в предисловии и послесловии к данному изданию. Перечислим регалии: вице-президент Общества практикующих психологов «Гештальт-подход» (Москва), ведущий тренер и член профессионального совета Московского гештальт института, директор Украинского филиала Московского гештальт института, основатель и президент Всеукраинского общества практикующих психологов «Гештальт-подход» (Одесса). Этой области он посвятил себя после 2000 г. практически полностью, отодвинув на задний план академическую карьеру и довольствуясь статусом доцента кафедры клинической психологии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова; его неформальный статус был неизмеримо выше формального. Время от времени он задумывался о защите докторской диссертации, но на это у него не было времени, после 2001 г. он не выпустил ни одной своей книги (хотя подготовил к изданию больше десятка переводных книг и антологий), да и научные статьи публиковал нерегулярно. Тем не менее ему принадлежат более 200 научных работ, в том числе несколько монографий и изобретений в области клинической, социальной, судебной психиатрии, суицидологии, психологического консультирования и психотерапии.
Самым важным его профессиональным делом, тем, о чем он размышлял, чем жил и работал в последнее время, – была философия психотерапевтической практики. Александр Моховиков представлял психотерапию, в частности гештальттерапию, как культурную практику, как стиль жизни, который предполагает определенные философские основания. Этими основаниями для него были философия экзистенциализма и феноменологии. Именно с экзистенциально-феноменологической точки зрения он рассматривал психотерапевтический процесс, психотерапевтическую деятельность в целом и жизнь психотерапевтического сообщества. Терапевтические отношения Александр Моховиков понимал как форму столкновения и терапевта, и клиента с пограничной ситуацией в духе Карла Ясперса. Оригинальная трактовка Моховиковым идей Ясперса внесла значительный вклад в практику кризисной психотерапии. Сформулированные им дилеммы развития для каждой специфической пограничной ситуации выступили своего рода картой экзистенциального кризиса, картой той местности, где даже опытный специалист может потеряться. В своей работе, как и в жизни, Александр Моховиков не прятался за социальной ролью терапевта, врача, преподавателя, а был готов принимать вызовы бытия. Философские основания профессии были для него не декларацией, а личной жизненной философией.
Имея серьезный бэкграунд в виде полученного образования, опыта клинической практики, научной и преподавательской деятельности, А. Моховиков искал подход к клинической реальности, к дилемме несовместимости естественно-научного и феноменологического подходов в клинической диагностике, который бы соответствовал его философскому мировоззрению. И последние его работы и выступления так или иначе вращаются вокруг этой проблематики.
А. Моховиков считал, что психотерапевт должен «уметь находиться в диагностическом расщеплении и одновременно обладать навыками сочетания этих двух разнородных подходов». Наиболее близки ему в этом вопросе были Карл Ясперс и Людвиг Бинсвангер. С их идеями он соглашался, спорил, развивал их. Так, Ясперс, пытаясь соотнести феноменологическую и естественно-научную установки, сближал понятия «феномен» и «симптом», определяя последний как «субъективный феномен». А Моховиков, в свою очередь, доказывал, опираясь на базовые принципы гештальт-подхода, что феномен гораздо ближе к понятию синдрома. Ведь когда клиницист проводит диагностику, он воспринимает психопатологическое состояние пациента не по частям, а как нечто целое, как завершенную форму, как совокупность составляющих его элементарных частиц (симптомов), то есть как синдром. Вслед за Бинсвангером, он отклоняет дихотомию «норма-патология» и рассматривает условную ненормальность психически больного как новую форму бытия-в-мире, которая познается через экзистенциальные структуры и процессы – модусы бытия. Анализ шести модусов бытия, сопровождающийся блестящими клиническими иллюстрациями, задает четкие ориентиры для экзистенциально-феноменологической диагностики психических заболеваний.
Семь лекций и статей А. Моховикова последних лет были выпущены в прошлом году в книге: Гештальт Александра Моховикова. Лекции. Статьи. Размышления / сост. Е. Гончарук. Львов: Лига-Пресс, 2017. На ее основе было приготовлено данное, расширенное издание, в которое вошли уже 10 материалов, не считая нового введения и послесловия. Оно выходит в московском издательстве «Смысл», в развитие которого Александр внес немалый вклад. Составители благодарят семью А.Н. Моховикова за предоставленные права на издание, а также всех, кто помогал в подготовке книги к печати.
Е. Гончарук, Д. Леонтьев
Предисловие к первому изданию
Мы познакомились с Сашей в 1988 г. Я была одной из энтузиасток «самодельного» «Телефона доверия», а он уже был кандидатом медицинских наук, работал на кафедре психиатрии и в клинике. Очень хорошо помню нашу первую встречу. Мы с моей коллегой, тоже энтузиасткой, ехали на встречу с Борисом Григорьевичем Херсонским в «сумасшедший дом». Улыбаюсь. Он там работал, заведовал отделением. Мы с коллегой очень волновались – впервые такое нестандартное место посещаем. Помню, как мы робко постучали и дверь нам открыл Саша. Он казался тогда большим и грозным. Смерил нас таким существенным взглядом с головы до ног. Мы пропищали что-то вроде: «Нам нужен Борис Григорьевич», и Саша очень иронично и громко сообщил: «Борис Григорьевич, это к вам». Тогда он сильно ошибся. Этот визит значительно больше был к нему. Лет на 25 с гаком… Раньше таких, как Саша, называли «человек энциклопедических знаний». Сейчас, увы, это выражение можно встретить крайне редко, впрочем, как и обладателей этих самых знаний. Чем Саша жил? Что любил? Этого всего очень много. Книги, хорошее кино, музыку, историю, антропологию, психиатрию, суицидологию, философию, психологию… Собирал живопись психически больных людей. Если обобщить – он любил жить. Жить медленно, много мыслить, философствовать и с удовольствием вести интеллектуальные беседы и споры… С грустью думаю о том, что темп его жизни с каждым годом все больше ускорялся, а ее срок оказался не очень велик. Увы, так бывает часто с теми, кто живет полной грудью и сразу на чистовик. Он рассказывал, что мечтал заниматься антропологией и очень любил историю. Я думаю, эту мечту Саша отлично реализовал в своей увлеченности путешествиями. Саша любил камни, античные камни, что-то особенное с ним происходило в этих местах. Его лицо становилось одухотворенным, глаз горел. Мне казалось, что про каждый камушек он знал отдельный миф или легенду. Долго вся компания не могла придумать, как его отвлечь и увлечь чем-нибудь другим. А еще племена: Папуа – Новая Гвинея, Мексика, Африка, Таиланд и т. д. Саша был в этих местах похож на умиленного Гулливера, аборигены отвечали ему взаимностью. А еще (немного по секрету) его восхищали местные, почти первобытные женщины, пугающие и прекрасные одновременно в своей простоте и наготе. Спокойные, мирные, основательные, кормящие большой грудью своих малышей.
С нами мало что в этой жизни происходит случайно. Я убеждена, что в профессию мы всегда приходим откуда-то и зачем-то. Саша не очень любил говорить о себе. Хотя с близким кругом он бывал открыт. Благодаря этому я знаю несколько историй, которые, как мне кажется, прольют свет на его особый профессиональный интерес. Имя этому интересу – феноменология психической боли. Он всю свою профессиональную жизнь продолжал ее исследовать и описывать. Я думаю, он искал ответы на вопросы, которые задал себе очень давно.
Первая история. В 9 лет он оказался в санатории для детей с онкологией. Самым ярким воспоминанием была пустая кровать мальчика, с которым вчера они играли, а ночью тот умер. Я думаю, пережитый тогда детский страх, вперемешку с отчаянием и любопытством перед могуществом смерти, во многом повлиял на выбор жизненного пути. Психиатром Саша был детским. Очень хорошим и грамотным. Как будто мир ребенка-аутиста ему был понятен лучше, чем всем вокруг. Потом суицидология, «Телефон доверия», клиническая психология и, наконец, психотерапия суицидов.
Еще одна история. Близкий Сашин друг разбился в автокатастрофе. Авария случилась в новогоднюю ночь. Друг поругался с девушкой и на полной скорости в гололед не справился с управлением. Саша дежурил в реанимации в ту ночь. Нужно было делать вскрытие. Я уже не помню, почему это нужно было делать так срочно, не помню деталей, помню только ошарашивший меня факт – вскрытие пришлось делать Саше. Он иногда вспоминал эту историю, когда ему задавали вопросы: «Почему суицид?», «Почему такая странная тема?». Мне кажется, из таких вот историй и сложился его путь между любовью к жизни и уважением к смерти.
И еще одна история. Будучи студентом-интерном, Саша попал в одно из отделений психоневрологического стационара, где пожилая медсестричка призывала говорить всех шепотом, потому как в маленькой комнатке, за занавеской, умирал уже совсем сумасшедший бывший главврач этого заведения. Эта история о том, как появилась в Сашиной жизни психотерапия. Он рассказывал, что в какой-то момент своей медицинской карьеры очень ясно понял, что легко может повторить судьбу этого человека. И стал искать. Ушел из клиники. Пришел преподавать в университет. Долгие годы развивал тему превенции суицидов – книги, лекции в разных странах, самая крупная школа подготовки консультантов «Телефона доверия», большие международные конференции и симпозиумы. Мы долго дежурили с Сашей в паре на «Телефоне». Лет семь.
Для него всегда был один путь в профессию – если я что-то пишу или говорю людям, я должен это сначала пройти сам. Он не умел хитрить. Потом, придя в гештальт-терапию и возглавив большое сообщество, он продолжал держаться за эту свою ценность. Помню, как злился на тех, кто рвался преподавать, не видя в глаза живых клиентов. Он был категоричен и временами суров к тем, кто не хотел учиться. И очень злился, когда замечал у коллег отсутствие интереса к конкретному человеку на фоне постоянного интереса к деньгам. У Саши, без всяких сомнений, всегда была своя правда и своя совесть. Мне кажется, если бы он родился в другое время, из него получился бы прекрасный путешественник-первопроходец – большой, устойчивый, строгий, упрямый, немного циничный, в каких-то вопросах по-детски наивный, верящий в то, что только интерес человека к самому себе может сделать мир лучше. Он не верил политикам и лозунгам, но до последнего дня верил отдельному человеку и книгам. Он очень любил думающих людей. Был не всегда добр к ленивым. Он умел видеть удивительные, никому не заметные детали и мог не заметить что-то большое и простое. Мне много раз хотелось сказать ему спасибо. И каждый раз я вспоминала, что Саша очень по-своему относился к благодарности. Он не очень любил, когда его благодарили. Развивал идею про связь благодарности и высокомерия. Но сегодня я думаю, что просто смущался. Я очень надеюсь, что эта книга поможет вам найти свои ответы на вопросы, которые перед собой ставил Александр Моховиков.
Алла Повереннова
президент ВОППГП «Украинский гештальт институт»