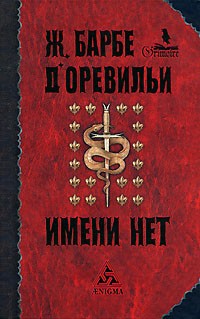Больше рецензий
5 августа 2011 г. 11:14
401
5
РецензияТема жизни и смерти, быть может, ещё не встречала такого мистического облечения в художественной литературе, как у Барбе д'Оревильи, одного из самых необычных французских писателей-декадентов XIX века, практически неизвестных русскому читателю. Читая произведения Барбе д'Оревильи — автора, ставшего для меня любимым, после прочтения первого же романа — «Порченая», — невозможно отделаться от ощущения, что человек, который их писал, что было в нём что-то поистине дьявольское — что-то нечеловеческое. И вместе с тем, что-то от Бога. Последнее, однако, увидеть значительно труднее, поскольку, подобно тому, как раскаявшегося садиста невозможно с лёгкой руки причислить к лику святых, так и писателя, спускавшегося в самые тёмные бездны человеческой души, непросто воспринять как фигуру цельную. Мистическая отрешенность — вот, на мой взгляд, подходящее словосочетание, в полной мере могущее передать дух произведений Барбе д'Оревильи.
Интересно, что, читая различную литературу, человек привык к тому, что если присутствует литературный герой, который воплощает в себе честь, благородство и, казалось, только он-то и придает произведению стержень, задает его лейтмотив, — то эта линия будет пронизывать всё произведение. Иррациональная, врожденная, необъяснимая вера в хорошее, в человеческую гуманность, в триумф света над тьмой, в победу — в счастливый конец. И всякий раз, стоило бы сюжету начать планомерно развиться в сторону счастливого конца, никто не ожидает — не желает и даже не мыслит о том, чтобы в самый последний, решающий миг, когда поставлены все запятые, тире и даже все точки, когда настал мир и пришло возмездие, — что в этот момент в лицо бесстрастно ударит смерть, вино внезапно станет ядом, монах предстанет дьяволом во плоти, благородную деву постигнет проклятье и всё повернется вспять.
«Барбе д’Оревильи не рискует стать писателем популярным, — писал М. Волошин, — так как, чтобы полюбить его, надо дойти до той степени сознания, когда начинаешь любить человека лишь за непримиримость противоречий, в нем сочетающихся, за широту размахов маятника, за величавую отдаленность морозных полюсов его души».
Произведения Барбе д'Оревильи пронзают сознание, пробуждают его ото сна отрешенностью и бесстрастием. Они проникают вглубь, намного глубже того уровня, на котором человек предается беззаботным фантазиям и романтизму. Восприимчивому человеку его читать будет очень сложно, наверное, даже слишком сложно. Слишком отрешенно, слишком бесстрастно и оттого жестоко порой он описывает тот ужас, всё то дьявольское, на что способна душа человека, и столь же истово и отрешенно, вместе с тем, взывает он к Богу. В ходе чтения повести «История, которой даже имени нет» у читателя может не раз возникнуть мысль о том, что книгу писал обезумевший душевнобольной человек, хочется её закрыть, умыться холодной водой и больше не открывать. Повествование полностью лишено той наивности и наигранности, присущей нынешнему веку, ибо представляет собой экспозицию всего того, что латентно пребывает в бессознательном человека — и, пожалуй, в душе самого mankind, человека как архетипа.
Барбе д'Оревильи убивает своих героев, медленно и жестоко умерщвляет их на глазах читателя, стращая его бедой и описывая ужас, но вместе с тем словно бы отдаляется от повествования, предоставляет читателю пережить всю тяжесть атмосферы, оставаясь при этом лишь сторонним наблюдателем.
«Я хороню его, как будто сама убила», — думала она, и ей припомнилась одна страшная история, которую ей когда-то рассказали. Семнадцатилетняя служанка родила одна без всякой помощи ребеночка и придушила его.
Но Ластени, истерзанная ужасом и оскорблениями, ничего не отвечала, только глядела на мать широко раскрытыми пустыми мертвыми глазами. Прекрасные глаза цвета серебристых ивовых листьев навсегда потухли, с той поры никто ни разу не видел, чтобы они заблестели хотя бы в слезах, а слёзы лились из них неиссякаемым потоком.
И лишь в завершение повести, автор пробуждает читателя, как бы встряхивает его, говоря «Проснись!»; страдание и дьявольские повествования пришли к концу. Автор пишет о раскаянии и словно раскаивается сам:
— И тогда мы с братьями вспомнили, что орден траппистов всегда давал приют преступникам, избегшим людского суда. Мы открыли ему ворота нашей обители и затворили их за ним, укрыв от земного правосудия во имя небесного милосердия! Отец Рикюльф был из тех, кто ни в чем не ведает предела. Он прожил среди нас не один год, искупая свои грехи самым искренним покаянием.
— Вы — христианка, сударыня, а говорите не по-христиански. Смотреть на усопших с ненавистью — значит кощунствовать, мы должны чтить мертвых.
— Этого — никогда! — свистящим шепотом проговорила баронесса. — Я едва удержалась, чтобы не спрыгнуть в могилу и не растоптать его каблуками!
— Несчастная, — прошептал настоятель, — не в силах совладать с пожирающей её ненавистью, она так и умрет, не изведав благодати прощения.
Баронесса и в самом деле вскоре умерла, ни в чем не покаявшись; найдутся, наверное, такие, что будут восхищаться её гордыней; мы не из их числа.
Чего стоит хотя бы название повести и предваряющий её эпиграф («История, которой даже имени нет»):
Ни от дьявола, ни от Бога —
им даже имени нет.
Автор, который по праву занимает место рядом с такими мэтрами мистической и декадентской прозы как Густав Майринк, Артур Мейчен и Жорис Карл Гюисманс.
P.S. которой даже имени нет…