Больше рецензий
27 октября 2019 г. 12:31
435
4 «Мысленно душою с вами и моей дорогой эскадрой. Уверен, что недоразумение скоро кончится. Вся Россия с верою и крепкой надеждой взирает на вас. Николай».
Рецензия«Многие возмущаются — как можно было отпустить даже нейтральный пароход, который был свидетелем того, что мы скрываемся в этой бухте? Это был английский пароход под немецким флагом, имевший груз угля; он обладал ходом не менее 16 узлов. Почему его отпустили наши крейсера — никто не мог понять. Если мы хотим сохранить в тайне наше пребывание здесь, то смело можно было его попросту задержать под предлогом осмотра груза»

Влади́мир Полие́вктович Косте́нко, инженер-судостроитель, участник сражения при Цусиме. По умственному развитию должен был бы понимать то, что было не силам «революционному» разуму большевистской сволочи Новикова(Прибоя), но, увы… Печально читать мемуары человека, который назван впоследствии большевиками создателем кораблестроения СССР. Для того, чтобы стать создателем, он сперва стал одним из главных разрушителей русского флота. Мотив его мемуаров – это песенка «а я здесь ни при чем». Он пытается описывать все огрехи, просчеты и недостатки кораблей второй эскадры, отправленной на заклание (убой) японским богам, играя вид стороннего наблюдателя. Однако он им не был. Он был в числе тех самых, молодых, да борзых русских инженеров, которые вдували в уши представителям технических комиссий мысль о необходимости заказа для российского флота именно броненосных кораблей. Это, якобы, могло быть единственным спасением от японских новейших кораблей, типа «Асама», заказанными Японией европейским заводам по дополнительной программе судостроения 1896 г. При этом им было намерено опущен тот факт, что броненосцы в японском флоте составляли своеобразное ядро, вокруг которого концентрировались корабли других военных классов. Из русского флота сделали такое же ядро, но без оболочки – без мощного отряда подвижных и компактных кораблей. Работал какое-то время Костенко в проектном бюро Балтийского завода, что – внимание – позволило ему получить доступ к техническим архивам! Новые броненосцы заказывались естественно за рубежом и принимались на ура техническими комиссиями в России. Строились, впрочем, броненосцы и на верфях Петербурга. Спуск одного из них на воду снял кровавую человеческую жатву, словно кто-то стремился повторения Ходынской трагедии, но уже на воде, в присутствии императорской семьи. «Подхваченный порывом ветра, флагшток с флагами и оснасткой рухнул вниз с большой высоты перед самым началом движения корабля и упал прямо на открытую площадку в район, где стояла группа воспитанников училища.
При этом на месте были убиты флагштоком два моих однокурсника — корабельщик Густомесов и механик Ван-дер-Берген, а два механика — Филипповский и Сачковский — тяжело ранены и упали без сознания. Кроме того, тяжелый деревянный блок, окованный железом, описав дугу на конце троса, поразил прямо в череп жандармского полковника Пирамидова, стоявшего рядом с группой наших воспитанников. Пирамидов был убит на месте. Все это произошло непосредственно перед глазами зрителей, находившихся в царской палатке, но двинувшийся корабль прикрыл своим корпусом эту кровавую картину.»
Как же похож Костенко на «героя» ВОВ Кузнецова, который сливал секреты англичанам. Моряки царского флота ничем не уступали своим большевистским потомкам – практически накануне войны инженеры-кораблестроители «галантно» принимали на строительных верфях представителей японских военных миссий. «Прибывшая группа японских моряков и специалистов посетила также и Петербург для ознакомления с русской судостроительной техникой. Главный Морской штаб дал японцам разрешение на осмотр всех адмиралтейских заводов и строящихся кораблей.»
N/B/ «Штаб не придает никакого военного значения японскому визиту и не считает нужным что-либо скрывать, а, наоборот, имеет цель подчеркнуть полное отсутствие у русского правительства военных тайн от японцев, чтобы этим доказать свои миролюбивые намерения в отношении Японии».
Как тут не вспомнить «дружественные» визиты офицеров Третьего рейха в СССР накануне войны…
Японцы тщательно изучали степени готовности русских кораблей и в соответствии с этими знаниями планировали дату начала войны. Колониальная Россия, тем временем, изо всех сил помогала вражеским экономикам под лозунгом подготовки к войне, которую считали невозможной и невероятной! 90 млн. рублей было выделено на закупку и постройку кораблей за границей. Большая часть их потом пополнит ряды японского флота, или будет потоплена…
Ряд красноречивых фактов, говорящих сами за себя и демонстрирующие суть России накануне войны:
1. Выпускники механических отделов были выпущены безо всяких экзаменов и дипломов и направлены на корабли Тихоокеанской эскадры, с целью ее усиления!
2. Все японцы срочно ликвидируют свои торговые предприятия и другие дела в России и в Порт-Артуре, готовясь к немедленному отъезду, а царское правительство делает вид, что ничего не происходит.
3. На дипломатические ноты японцев правительство России просто не отвечает.
4. На момент нападения японцев военное положение на русском флоте так и не было введено. Броненосцы и крейсера стояли по мирному положению даже без противоминных сетей, имевшихся на всех кораблях. «Варяг» и «Кореец» были потеряны практически без ущерба для врага.
5. Тяжелые корабли и, следовательно, неповоротливые заставляли работать разведчиками, а легкие и быстроходные – играть роль тяжеловесов. ««Варяг» не строился для решительного эскадренного боя и предназначался к дальней разведочной службе. Вся его защита состояла из одной броневой палубы со скосами по ватерлинии и броневой боевой рубки для командования. Но зато он мог развивать скорость до 24 узлов и вместе с «Аскольдом» и «Новиком» составлял отряд сильных разведчиков при боевой эскадре. Вместо этой службы его отправили одиноким стационером в такую мышеловку, как порт Чемульпо с одним выходом в море, который было легко преградить неприятельской эскадре. И «Варягу» было суждено стать первой жертвой войны.»
6. Упорно предпочиталось использование брони 400–457 миллиметров и тем не менее не дававшей полной защиты даже против 305-миллиметровых снарядов.
7. Многие корабли русского флота, не получив приказа покинуть чужие порты, были там задержаны и арестованы, в отличие от японских торговых судов, заблаговременно покинувших русские порты.
8. В результате формального порядка «морского ценза» перед самой войной в 1903 г. на Востоке произошла массовая смена проплававших свои положенные сроки адмиралов, командиров и офицеров, а на их места были посланы из России кандидаты, ждавшие очереди заграничных плаваний. При такой системе комплектации личного состава в момент завязки войны все адмиралы, плававшие на Востоке в период 1895–1903 гг., оказались на береговых должностях в России. Здесь были Макаров, Скрыдлов, Рожественский, Бирилев, Чухнин, а во главе флота на Востоке находились Алексеев, Старк, Ухтомский, Витгефт. Так же обстояло дело и с назначением командиров кораблей. Погибший на «Енисее» Степанов, ранее преподававший в минном классе химию взрывчатых веществ, должен был в силу требований морского ценза прервать преподавательскую деятельность, чтобы проплавать положенное число лет в должности командира корабля.
9. Накануне войны на всех заводах работы шли самыми замедленными темпами, в пределах строго ограниченных кредитов.
10. Размер большинства угольных ям броненосцев эскадры не был достаточен для обеспечения дальнего перехода. Именно поэтому все броненосцы были превращены в сухогрузы, навалом принимавшим уголь на борт, в ущерб своим военным характеристикам.

"Iwami" (бывший "Орел") под японским флагом.
Вообще непонятно, на что могла рассчитывать Россия с таким отношением к войне. А ведь все главнейшие порты на пути в Тихий океан находились в руках англичан, а потому наши корабли не могли рассчитывать ни на какое содействие и должны были полагаться только на свои собственные средства. Вся суть «героической» истории российского флота сводится к бессмысленному самопожертвованию в стиле «а-ля самурай». При войне с японскими самураями это звучит особенно печально. Все газеты, российские в первую очередь, настолько раструбили на весь мир о готовящемся походе второй эскадры, что отменить это бессмысленное выступление было уже невозможно. Другой иной кандидатуры, кроме адмирала Рожественского, способной не только возглавить эскадру, но и согласиться с этим «почетным» заданием не нашлось. Костенко даже не пытается порассуждать на эту тему. Зато он активно рекламирует Новикова, который читает нужные, большевистские книги… В принципе, с такими «друзьями» флота, как Новиков, не нужны были никакие враги. Военный корабль, оказывается можно было легко вывести из строя просто оставив «сушиться» матросские штаны на валике у труб паровых машин! Во время паники, вызванной якобы появлением японских кораблей началась беспорядочная стрельба. Многие стреляли, не отвинтив наружной крышки с дульного отверстия. Это привело к выходу из строя орудий.
Вывести из строя, или уничтожить эскадру можно было не только при помощи матросских штанов, но это не делалось. Ее толкали на алтарь военной гекатомбы. В колониальных портах заботливо загружали углем, а английские крейсера, обложив конвоем эскадру, следили за тем, чтобы лошадь, ведомая на убой, шла по нужному проходу. После столкновения с рыбацкими кораблями, Англия настояла на созыве первого в мире военного трибунала-комиссии, прообраза современной Гааги, с карманными судьями. Рожественский едва не стал Милошевичем тех лет. Русский царь ограничился бессмысленной телеграммой поддержки, лишь вызвавшей недоумение и злость среди моряков. Не отстает в плане беспечности от своего царя и сам Костенко. Тошно читать его восхищенные строки о разных тропических растениях и добросердечных туземцев, которых он встречает в момент схода на берег. Словно он и не беспокоится о войне, о том, что остатки русского флота движутся навстречу неминуемой гибели. Лишь открытки с пальмами занимают его размякший мозг… А то, что практически все оборудование корабля было выведено из строя угольной пылью, его особо не волновало. Он просто вносил свои наблюдения в дневник и продолжал восхищаться пальмами. А ведь не спали и большевики на вроде Новикова, которые, словно крысы, грызущие дно корабля, работали не покладая рук ради дела революционного разрушения и разложения команды. По приближении эскадры к месту будущей гибели, союзник России Франция, «внезапно» отказывается позволять дозагрузку угля в водах своих колоний и корабли вынуждены набрать рекордный запас угля, доводя маневренность свою до нуля! Днища и борта кораблей обросли ракушками и бородой из водорослей, что также должно снижать их скорость. Ближе к финалу две корабельные крысы – Новиков и Костенко проводят все больше времени вместе, обсуждая, ну конечно же, будущее России и ее флота… Ну, а еще после разгрома, к морякам явился американский консул и начал рекламировать прелести республиканского строя, а Костенко развесил свои уши. Всю вину, или большую ее часть, Костенко взваливает на Рожественского, продолжая свою песнь «я ни при чем». Впрочем, корабельные крысы действительно, к корабельной команде не имеют никакого отношения и, как правило, избегают гибели…


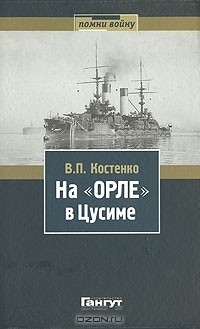
Комментарии
к сожалению, там было большинство таких, как вы. Поэтому, не пошла бы история по другому пути...