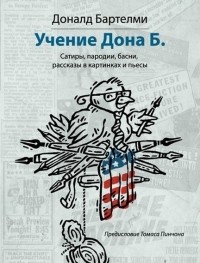Больше рецензий
8 июня 2020 г. 19:16
834
4 and now for something completely different
РецензияЯ легко могу представить как рассказ «Целование президента» разыграли Джон Клиз и Эрик Айдл. А иллюстрированные рассказы с коллажами оживил Терри Гиллиам (в первую очередь «Приключенье» и «Приз Дассо»). Всё ещё обдумываю как могли бы выглядеть «Сердитый молодой человек», «Образ зайки» и «Монументальное недомыслие» в исполнении Монти Пайтон. Собственное «The Tmeние» они уже ненароком сняли («French Subtitled Film»).
Но ведь нужно быть прагматичным? И постараться зацепить, представить книгу как что-то актуальное, интересное или стильное. «Учение Дона Б.» - отличная книга для начала знакомства с Бартелми. Здесь можно найти ключи от тех дверей, которые расставлены в романах, а также в особо замороченных рассказах. Это Бартелми-лайт? Его можно лениво пролистать и решить, стоит ли нырять, например, в "Мертвого отца"? Нет. Никакого лайт здесь нет. Хард, кстати, тоже. А ещё в этом сборнике есть театральный ремикс романа «Белоснежка», про который пришлось бы писать отдельно, но сейчас будет нечто совершенно иное.
Короткие тексты Бартелми обычно сплетаются из двух историй. Первая история обычная и конвенциональная, про людей или поблизости. Вторая история — это приключение языка. Эти истории рассказываются друг через друга, одна выступает медиумом для другой. Незначительная поправка для сборника «Учение Дона Б.» в том, что обычная история в большинстве текстов вырастает их журналистики. Это истории рассказанные по историческим, политическим или поп-культурным мотивам, «на злобу дня».
Приключения языка не могут существовать сами по себе, без чего-то проговариваемого. А обычная история превращается в пустую банальность, если её не подсвечивает и не рассказывает через себя язык. Благодаря движению языка в тексте Бартелми, мы видим как обыденность и банальность превращаются в трагикомический театр теней. В попытке объяснить друг друга две истории уничтожают определённость и переламывают друг другу позвоночники фраз. Однозначность — это конформизм. Трагедия и комедия дышат одним холодным воздухом тревоги. Такая нестабильность в каждом тексте существует на двух уровнях, которые соответствуют двум историям: онтологическом и лингвистическом.
Так каждый рассказ (заметка, фрагмент, басня) становится мини-ситуацией тревоги, неуверенности, где сбоят способы интерпретации, а мы остаемся перед всегда пугающей многозначительностью. Это не тот дешевый тип неоднозначности, когда мы можем повернуть все так, как нам будет удобно и принять это. Следуя мысли Къеркегора, которого Бартелми часто поминает в своих текстах, противоречия должны нарастать и заостряться. Поэтому огонь продолжает двигаться, блики играют на стенах, а тени не останавливают превращение. Пластичные, подвижные и непостоянные как язык. Чтобы пламя не гасло, ему необходим кислород, который в литературном мире Бартелми заменяется иронией. Она постоянна и она необходима как условие существования.
Искусство, и в частности литература, для Бартелми получается игрой. Но будем осторожны и не станем втискивать это определение в распространённое мнение о постмодерне. Игра Бартелми не холодная, отстранённая игра в смыслы. Это игра детская, радостная и благородная. В которой мир разбирается и собирается обратно. И каждый раз это удивительно, захватывающе и трогательно, как в первый день творения. Все же мы помним, что было в начале, да?
Автор, не скрывая радости творца, показывает из чего мир был собран: поп-культура, мифы, цитаты и вся вселенская библиотека. В этом сходство Бартелми с мастерами фантастики, которые из одного фантастического допущения развёртывают целый мир. Или мастерами сказок и притч. Несмотря на всё веселье, игра Бартелми в то же время серьёзна, как и игра ребенка. И если мы допускаем такую серьёзность, то согласимся и с тем, что он исследует то из чего собирает мир с такой же серьёзностью: социальные, политические, философские и психологические вопросы. Как в собранном из газетных заголовков «Чик-чике», который завершается тем, что все предостерегают всех. Обо всём. Или «Мин», где суперзлодей из старого комикса озадачивается проблемами экологии и гонки вооружений.
Но Бартелми успевает посмеяться и над этим. Некоторые тексты (например, «Когда я выиграл») разворачиваются так, что после динамического начала события буксуют, а рефлексия над изначальным событием распухает до невероятных размеров. Неконтролируемое стремление к сверх-интеллектуализации опыта становится здесь предметом насмешки. Как ни странно, такое стремление мы находим у одного внимательных читателей Бартелми — Дэвида Фостера Уоллеса.
С одной стороны, каждый из текстов сборника — это история. История удивительная, захватывающая и не похожая на другие. Достаточно увлекательная, чтобы после каждой фразы не делать шаг назад, чтобы натянуть перчатки и под увеличительным стеклом начинать разглядывать цитаты, отсылки и комментарии к современной (и не очень) философии, теории искусства, политике и прочему («Повреждение мозга» и «Кулинария» - вполне себе Сорокин времён сборника «Пир»). Увлекательность эта состоит в умении Бартелми создать собственную реальность. Вместо того, чтобы только разбирать её, оставляя нас один на один со вселенской пустотой. Здесь, на страницах «Учения Дона Б.» светло, тепло и уютно. А у грусти цвет золотого полдня.
Примерно здесь же можно нащупать ту точку, где рождается относительная сложность чтения Бартелми. Это истории, но они настойчиво намекают, что являются чем-то большим. Вспоминая те неопределённости (онтологическую и лингвистическую) о которых мы говорили выше, мы согласимся, что они всегда и нечто большее, чем просто история.
Тексты Бартелми последовательно критикуют сами себя, сомневаются в собственной «литературности». В этом смысле, все они — мета-литература, литература о литературе, комментарий к эстетике. Например, когда сам Бартелми появляется на страницах и возвращает нас к напряжённой неопределённости. А за критикой литературы стоит настоящая цель — всё остальное. Что происходит с людьми, которые эту самую литературу читают, пишут или игнорируют. В конце концов, заглавный текст сборника как раз о том, что простые ответы никогда не бывают верными (а ещё это шутка про Кастанеду, да). Такие ответы как одежда размеров на 5-10 меньше. Даже если уместиться в неё — она затрещит по швам. Но продаются простые ответы и Кастанеда их продавал в промышленных масштабах. Вспомним миниатюру «Дворец», внутри которой сталкиваются два фрагмента: о конкретной очереди женщин с чеками и об абстрактном Дворце (читай, Замке). Между этими фрагментами есть сыплющее искрами трагикомическое напряжение. Которое не получает никакого разрешения.
Когда взгляд оторвётся от последней страницы и мы посмотрим на все рассказы, басни и фрагменты целиком, то увидим что объединяет их. Не самая очевидная черта, но Бартелми и не старался её спрятать: герои всех текстов несчастны. Своим обычным, банальным и от того вечно тлеющим отчаянием. И не последняя задача Бартелми в том, чтобы дать этим банальным людям и нам, банальным читателям, то утешение, которое он может себе позволить. Либо растерянно помолчать вместе с несчастным, как в «Фотографиях».
Бартелми вполне можно назвать моралистом в строгом, не выхолощенном, смысле этого слова. Не тем, кто учит как правильно. А тем, кто постоянно спрашивает о том, что мы можем считать правильным. Однозначность — это конформизм, напомню я. Вот этот договор, который мы поддерживаем, действительно стоит того? Если выхолощенные моралисты хотят ответов и щедро сыпят ими на каждом шагу (Карлос, отойдите и не мешайте, мы вовсе не про вас), Бартелми заинтересован в вопросах. Самый очевидный пример: фрагмент «Томясь, полупогрузившись в лето», где шутка про газетные объявления о знакомствах переходит в рассуждение о том, как человек сводится к набору характеристик и вынужден рекламировать себя, чтобы избежать стыдливого одиночества. А можем ли мы предложить что-то получше? Если вы знаете что такое Тиндер, то знаете, что годы развития технологий и разных социальных практик так и не дали ничего принципиально нового.
Бартелми гуманист того же образца, что и Беккет. И Пинчон в своём предисловии любезно расшифровывает его для нас. Представляя живым человеком, поглощённым реальностью и реагирующим на неё теми средствами и способами, которыми он владеет. Не кабинетный писатель, утонувший в литературности и игре ради игры, а анархист слова, контрабандист снов и городской партизан, чьё оружие такие тексты как «Инаугурация», «Та космополитическая девушка» или «Дракон».