Больше рецензий
19 июня 2021 г. 16:31
398
3.5 О выборе и выборах: как остаться человеком
РецензияНебольшая и грустная история, стопроцентно девятнадцатого века. Это видно по речевым оборотам и подаче материала, по описанию действий и чувств, по общей романтизированной и драматизированной интонации. Однако описываемые события можно оценивать совершенно без привязки к конкретному времени, стране и национальности - ведь речь идет о человеческих поступках и справедливости, которые повсеместно оцениваются в едином ключе. Исповедь могильщика - это рассказ о злоключениях одной небогатой семьи, в которой было восемь детей, жена-красавица и муж, чьи слова мы слышим в рассказе. Печальный сюжет, с одной стороны кажущийся фатальным, но с другой стороны -рукотворным. Мы видим доверчивого и наивного, нехитрого и не слишком думающего человека, живущего простым трудом и не умеющего мыслить более глобально, вдумчиво подходить к последствиям своих поступков и оценивать перспективы. Очень депрессивные выводы следуют из его истории, если смотреть как бы "сверху" рассказа, и обвинять его в тотальном неумении делать правильный выбор мне кажется неправильно. Тут нужно комплексно оценивать - и он виноват, конечно в произошедших переменах, и были вещи, которые он просто никак не смог бы изменить, а были те, которые не злой судьбой предначертаны, а не менее злой, а даже более циничной человеческой волей. Греческий автор девятнадцатого века показал собственно интересный парадокс выбора с социальным и философским подтекстом, который может быть актуальным, к сожалению, и сейчас.
Прочитано в рамках Игры в классики

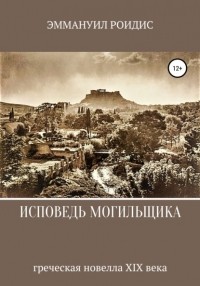
Комментарии
Не следует, на мой взгляд, быть столь категоричным к главному герою, характеризуя его как «не слишком думающего человека»…
Удивительные параллели можно наблюдать, сравнивая «Исповедь могильщика» и, например, чеховскую пьесу «Дядя Ваня» - сюжеты разные, а исторический контекст почти один и тот же:
«Серебряков: Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы для деревни не созданы. Жить же в городе на те средства, какие мы получаем от этого имения, невозможно … Наше имение дает в среднем размере не более двух процентов. Я предлагаю продать его. Если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то будем получать от четырех до пяти процентов, и я думаю, что будет даже излишек в несколько тысяч, который нам позволит купить в Финляндии небольшую дачу. (А.П. Чехов, «Дядя Ваня» 1896 год) Это, как мы помним, обращение «думающего и уважаемого» профессора к своей семье, которое в конечном счёте провоцирует дядю Ваню, доводит внутренний конфликт и противостояние до апогея, срывая все маски с персонажей пьесы.
А теперь фрагмент из «Исповеди могильщика»:
«Шёл второй этап избирательной кампании, погода испортилась, и я предложил полковнику погостить у меня. После хорошего сытного ужина он поинтересовался моими делами. Я рассказал ему, что от хозяйства моего доход маленький, а выручку от рыбаков съедают расходы по содержанию лодок. Вот тогда-то он и посоветовал мне продать все мои виноградники и лодки, а на вырученные средства купить пелопонесских акций, что выставил на бирже какой-то там полномочный поверенный из Афин. С них всяко я получал бы по десяти процентов прибыли, сидел бы надёжно на правильном месте и отдал бы свою дочь за перспективного сержанта, что был у него на примете. Вот так складно мне напевал наш добродетель…» (Э. Роидис, «Исповедь могильщика» 1895 год)
Снова фрагмент из русской литературы (публицистики):
«Эта подлость штабных чиновников приводила меня в состояние, близкое к бешенству, и чтобы не зависеть уже совсем от казенных покровителей и друзей, я продал затем и остальные собственные процентные бумаги, именно билеты выигрышных займов, которые в это время стоили в Петербурге по 150 рублей, но за которые мне купец-немец, имевший в России дела, дал только 80 рублей, которые, будучи переведены по курсам: бумажного рубля на фунты стерлингов, фунтов на ланы (taels) и ланов на доллары, составили в результате едва по 40 долларов за штуку… (М. И. Венюков. «Путешествие в Китай и Японию» 1896 год)
И снова «Исповедь могильщика»:
«Стало ясно, что лучше нам остаться без приданого, чем без дочери. Залез я в свой сундук, с горечью отсчитал три акции и отправился на биржу. Прежде чем войти внутрь, возле двери обнаружил большую чёрную доску, на которой мелом фиксировалась стоимость: против графы с записью «жел. дороги» обнаружил цифру «сто пятнадцать». Я остановился как вкопанный – здесь же нет и половины от цены, что я отдал за них два месяца тому назад! Ещё питая в сердце надежду, что я просто запутался в записях, я обратился за помощью к местному маклеру, но оказалось, что ошибки нет, правда, цена стояла вчерашняя, а сегодня акции вновь упали и стоили уже девяносто драхм. ….. В течение нескольких недель я ежедневно ходил на биржу, отслеживая цены и утром, и вечером. Каждый раз сердце мое билось как сумасшедшее, но, прежде чем посмотреть на доску, я осенял себя крестом и тайно клялся поставить по свечке у каждой иконы, если цена на акции поднимется вновь. Ничего не помогало. С девяноста драхм уже следующим днем цена упала до восьмидесяти двух, затем до семидесяти, пятидесяти, сорока, двадцати, а уж после их вообще никто не хотел ни за какие деньги.»
В чём-то схожие исторические факты есть у А.И. Куприна, у М.Е. Салтыкова-Щедрина, у П.Д. Боборыкина и др. К этим фрагментам я бы добавил и трагическую историю графа Грэнтэма из Аббатства Даунтон, который потерял большую часть состояния своей жены Коры, вложив его в акции канадской Grand Trunk Railway, однако этого персонажа вряд ли назовешь «не слишком думающим»! Параллели напрашиваются и с реальными биографиями наших современников, которые пострадали в результате финансового кризиса конца 90-х – ровно через сто лет после событий, которые описывали А.П. Чехов, Э.Роидис и др!
Таким образом, жизненные обстоятельства у героев очень близки, но писатели обращаются к разным сторонам одной и той же многоликой трагедии, которая на самом деле изуродовала многие судьбы по всему миру, вырывая с корнем людей из привычного уклада или затаптывая их в прах вместе с «вырождающейся» традицией и уже мало кому интересными ценностями… В русской литературе конца 19-го века появляется дядя Ваня (и иже с ним): умный, интеллигентный, тонко чувствующий, но с потерянной и изничтоженной жизнью, втоптанный в безликую рутину и серость, утративший всякий вкус к жизни, ещё как-то сопротивлявшийся и только что окончательно «смирившийся» (=сдавшийся). А в греческом мире в те же самые годы возникает свой новый литературный герой (один из героев), который также оказался «статистической погрешностью» глобальных перемен и нравственных вызовов, которые ему и его семье уготовала жизнь (упадок сельской экономики на островах, война, тиф, бюрократия, тотальное мошенничество на биржах, во власти др.), отчего физически и нравственно здоровый селянин, открытый и бесхитростный, с «неизбывным» вкусом к жизни, готовый жить этой самой полнокровной жизнью, - оказался втянут в гнусную и беспощадную авантюру, цинично обманут, теряет все, что ему важно и дорого,.. но изо всех сил пытается остаться (нравственным) человеком!
У вас так здорово получается проводить литературный разбор, что мне кажется это нужно публиковать не как критику моей личной (пусть и спорной) мысли и впечатлений, а как отдельную развернутую рецензию на произведение