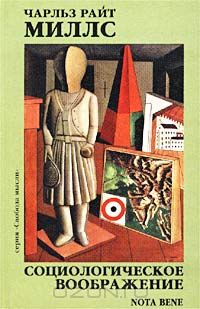Больше рецензий
4 мая 2015 г. 20:13
2K
5
РецензияЧ.Р.Миллс и всё, всё, всё
«Вот книга, которую вы держите в руках: "Что должны изучать социальные науки? — Они должны изучать человека и общество; иногда они этим и занимаются. Они пытаются помочь нам понять жизнь отдельного индивида и историю, понять связь между ними, про¬являющуюся в разнообразии социальных структур"…
Чарльз Миллс был известен в нашей стране. Невиданное дело, его «Властвующая элита» была переведена в СССР всего лишь спустя 4 года после выхода в США. «Социологическому воображению» пришлось ждать в десять раз больше. Ее издали на русском лишь в 2001-м. Знал об этой книге, видел у одной знакомой гендеристки, фрагменты использовались ad hoc, но до внимательного чтения как-то руки не доходили. Но все-таки притяжение книги – одной из важных для 20 столетия! – оказалось сильней.
Покойный Г.Батыгин, умница, под редакцией которого состоялся перевод, удивительным образом и по не совсем понятным причинам Миллса критикует (сам настаивая на точности «методологии» и прочих вещах, американскому бунтарю глубоко враждебных). Но при этом в предисловии уже содержится противоречие: с одной стороны, «Социологическое воображение» осталось в 1950-х, с другой – «удивительно напоминает наши сегодняшние дискуссии». Уже не напоминает. Надежды на социологическое обновление, научные прорывы или кокетливая бравада «Социологического журнала» остались в прошлом. Все скучнее: грант, проект, заказ, деньги, опросы по заказам «жуликов и воров»; забугорные поездки, если есть куда. Возобладала карго-социология и карго политология, в основном пустая форма без содержания. Все вроде есть: и кафедры-факультеты, и ассоциации-расколы, и программы-стандарты, и журналы-книги, и какие-никакие бюджеты-гранты, а наполнения достойного нет. Блатные россиянские поклонники социологического карго-культа решили, что главное это цитаты. И если в англоязычном, или западном мире (калашном ряду, изначально и сейчас, на нашенских не рассчитанном) их будут чаще цитировать, то это и будет научный успех, заменяющей теоретическую разработку важных СВОИХ проблем. А пока надо цитировать чужих, подражать им самозабвенно (анедот, но однажды дискуссия о правильной трактовке Р.Мертона дошла у наших до … суда), и встраиваться, встраиваться в «болонский процесс».
Рутина без вдохновения наступила гораздо раньше, на решение «социологией» сверхзадач надеяться просто уже смешно. Идеалистам-бунтарям типа Миллса, в отличие от Америки середины века у нас не находится места. Совсем. А ведь он предупреждал.
Не то, чтобы я имею сочувственное отношение к научному анархизму в феерабендовом духе или политической левизне Миллса. Вряд ли можно с сочувствием относиться к этому левому, который продвигал цитатник из Маркса и Мао. Но при всей разнице жизненных миров и мироощущений, Миллс представляется удивительно близким и понятным, несмотря на его раннюю смерть еще до моего рождения.
Критика ситуации в социологии и господствующих в ней направлений, содержащаяся в «Социологическом воображении», бьет не в бровь, а в глаз и до удивления продолжает оставаться актуальной. Можно сказать, что со времен написания книги, все стало только хуже. Идеалы разума и свободы, к которым апеллировал американский социолог, и которыми, по его мнению, должны руководствоваться социальные ученые, ответственные «за положение в мире», втоптаны в грязь
Глупенькие советские обществоведы, глотнув воздуха грантовой свободы, повернулись на Запад, беря оттуда зады социальной и политической науки полувековой и более давности, и соответственно, подхватывая те же «болезни» и пороки, с которыми воевал Миллс. Кошмар неудобоваримых учебников, всяческих «введений в социологию», по которым в РФ учат студентов, есть плохо переваренная и упрощенная «высокая теория» против которой выступал ЧРМ, имея в виду, прежде всего, парсонианство, но не только. Идут бесконечные дискуссии о «методологии», а теоретических прорывов не наблюдается. Убийственная сатира, касающаяся абстрактного эмпиризма, заставляет вспомнить бесконечные опросы с красивыми диаграммами в «ящике» («рейтинг стоит»). Если старшее поколение еще что-то думало о теории, то новую генерацию социологов интересуют в основном, заказы ради денег или слова ради слов. Наиболее болезненных и актуальных тем лучше избегать. Все это было в Америке времен Миллса и карикатурно и с большой скоростью получило распространение в постсоветской России. Конечно, интеллектуальный охват проблем значительно уже: не хватает мозгов, а также те небольшие привилегированные позиции, которые в стране есть, ревностно охраняются представителями академической и вузовской номенклатуры. (Порой в традициях их прямых предков – номенклатурщиков, вертухаев и стукачей). Актуально и другое: борьба клик, продавливание своих, маргинализация чужих, мелкотемье и пресмыкательство – все повторилось, но карикатурно и в гораздо меньших масштабах – размах американский постсоветский российский инвалид позволить себе уже не может.
Но – «обществоведу бывает трудно разыгрывать из себя жизнерадостного идиота»…
Сходство ситуаций в социологии и удивляет. Ведь не сравнишь же США середины ХХ века с нынешней РФ – инвалидом прежней империи и сверхдержавы. Там были рост, надежды на будущее, мощный средний класс, динамика и мобильность, сильные победоносные элиты, которые моралью не отличались, но мощно развивали свою страну, а раса и гендер ещё знали свое место. Здесь затухание развития, проедание наследства предыдущего периода, боязнь будущего, компрадорская и трусливая «элита», нашествия и разграбления и пр. Общества очень разные, а социологии в них похожи – как так?
Общее в желании «стабильности» и нежелании прислушиваться к критическому анализу. В частном случае социологии ее низводят из инструмента прогресса и эмансипации до роли обслуги власти и бизнеса. В итоге и власть, и бизнес заводят государства в тупик кризиса, который наступает «без предупреждения», ведь маргиналов» и крикунов маргинализировали.
Одно время Миллса любили советские обществоведы (отсюда и феноменально быстрый перевод его «Властвующей элиты», и ссылки в журналах и сборниках и постсоветские оговорки – как бы ни заподозрили в «левых симпатиях»). Советские критики по допуску читали вожделенные американские тексты в спецхране или получили представление о них по инионовским рефератам. Принимать эти слова всерьез не получается, ибо «наши» видели соринку в чужом глазу и изображали из себя критически настроенных ученых, но не видели – было запрещено – советского «бревна». Потом, конечно, расписались, расхрабрились – мёртвый монстр уже не так страшен. У нас, те, кто был смел, те не имели надлежащей подготовки и знаний социального ученого (например, Солженицын в ряде вопросов был весьма наивен), а те, кто социальную и политическую знал теорию, тот боялся ее применения и выводов. В какой-то степени такая же картина и сегодня.
Но вопрос ведь не только в дискуссиях по частным вопросам и/или идеологии. Перехлестов и публицистических резкостей у Миллса в избытке. По ряду позиций его справедливо критиковали. Но по главным пунктам он был прав – общество тупеет и не знает себя, и его инструмент в этом социология теряют интерес к наиболее важным для себя вопросам, предпочитая успокоительное бодрячество.
«Ведущие социологи» бодро транслируют и заимствуют американскую мудрость; несколько хлебных мест остается для любителей «габитуса» или «клиники» и пр. Пишут обо всем, терминология все изощреннее, а анализ все тоньше. Но если тебе нравится Миллс, то все это хочется назвать «фигней», ибо социологи наши квалифицированные главных вопросов стараются избегать, или размениваются на частности. Трещат о чем угодно, только не о том, какие структурные причины вызвали катастрофическую неудачу «реформ», на которые так молились в конце 80-х, что это за социум такой, где попытки стать «нормальной страной» обернулись позорным конфузом. Почему с нами все это произошло? Слюнявить Фуко, конечно, «лучше».
Зато те, кого можно назвать «плохими парнями» активно могут использовать «социологическую науку» для своих целей – укреплением своих позиций и манипулированием тем, что осталось еще от «российского общества». Представители этой науки фактически помогают врагам России, так, к примеру, «академическая наука» активно оправдывает стремительный рост чужеродной миграции. На кой черт нам такие «ученые» и где им надлежащее место!
Фактически с моральной и политической точки зрения россиянские социологи провалили свою эмансипаторскую миссию в своем обществе. А, может, ее и не было, а имелись лишь слюни недовольства по поводу цензуры и трудностей с поездками за рубеж? или общество было не «их»? Во всяком случае, Миллс предупреждал, что ученые должны понимать моральные и политические моменты своей работы. Без постановки действительно актуальных задач и наличии нежелательных тем, «теория и метод» социологической науки делаются бесполезными и часто даже контрпродуктивными.
Это частный случай того, что рост рациональности не сопровождается уровнем свободы (подобные опасения относительно капиталистического общества и роста значения целерационального действия высказывали Макс Вебер). Политическая безответственности власти и пассивности толпы «жизнерадостных роботов» становится все больше.
Но в середине столетия были и надежды на преодоление «отчуждения». Эмансипаторский порыв зрел и готовился. Миллс умирает в 1962 году, так и не дожив до молодежной революции 1968-го, одним из вдохновителей среди образованной молодежи он был. Однако гора родила мышь, освободительный порыв растворился в наркотической дурмане и генитальном перенапряжении; вместо освобождения появились новые путы. Как правило, после неудачной (и даже удачной с виду) следует реакция, и молодежная революция не стала исключение. Идеологический террор «политкорректности» не лучше пресса коммунистических идеологов. На развитии социальной науки это также не могло не сказаться. Ныне невозможно представить себе появление шедевров социологической публицистики наподобие «одинокой толпы» Дэвида Рисмена или того же «Социологического воображения». Мелкотемье и фактическая апологетика существующей «стабильности» правят бал. А как же иначе получать заказы и сохранить существующие структуры и статусы для себя любимых. Критические работы, конечно, тоже имеются в избытке, но, как правило, они выглядят не слишком «фундаментально» (при том, что старые генерализации, претендующие на всеохватность, наподобие того, что было у А.Тойнби, А.Кребера или П.Сорокина сейчас смотрятся как архаика. Для того чтобы изложить материал с необходимой точностью уже никаких объемов не хватит).
Но проблемы не только с «темами», но и с сильными идеями. Замкнувшись в «научной объективности» социология именно ее и может потерять. При этом и собственно теоретическая значимость исследований тоже ставится под вопрос. Повторим, что критика Миллсом схоластики «высокой теории», «абстрактного эмпиризма» бесконечных «проектов», методологии» оторванной от конкретного материала, а также «социояза» - намеренного и ненужного усложнения языка изложения – сохраняет свою актуальность. Правда, надежд на то, что у нас станет лучше, уже не остается.