Опубликовано: 1 июля 2021 г., 14:42
1K
Правило хорошей прозы

Гугл считает меня литературным редактором. Такие компетенции надо оправдывать, так что поговорим о крепком художественном тексте.
За все то время, что я плотно занимался литературной редакцией, мне удалось вычленить одну универсальную черту хорошей прозы: очевидная задача, с которой автор очевидно справился. То есть текст должен работать, текст должен делать «вау». Очень простая философия, только вот у всех свои представления о том, что «вау», а что нет. К тому же, несмотря на присказки про «бессмертную классику», произведения устаревают, и что вчера было очень даже «вау», сегодня читается пресно. Современники при этом пишут так, будто 21 век еще не наступил. Следуя за традициями, они забывают обо всем остальном и создают литературу для людей, которые и так любят литературу, вместо того чтобы бороться за внимание аудитории, скажем, с Netflix.
Норовя как-то сориентироваться в хорошем стиле, я регулярно составляю списки авторов (не только прозаиков, но и сценаристов, журналистов и т.д.), которым удались на письме те или иные вещи. Реже – списки конкретных произведений вроде того, что представлен ниже.
Мастерство писателя быстрее всего обнаруживается в его рассказах, поэтому я собрал не самые очевидные, но эффектные вещицы – целые миры в пределах пяти тысяч слов, – чтобы на их примере показать, что я подразумеваю под текстом с решенной задачей.
Алла Горбунова, «Психоанализ в аду»
Коротенький рассказ, открывающий сборник «Вещи и ущи». В нескольких абзацах все, за что я люблю Горбунову – болячки попонятнее в обрамлении метафоры почудастей, – и нет ничего из того, за что не люблю – саморазоблачений и общей приземленности.
Тобиас Вульф, «Охотники в снегу» (пер.: В. Бабков)
В чем заключается гений Тобиаса Вульфа: он до капли выжимает подсахаренную носовую слизь из того, что англоязычные авторы называют «human moments», а мы, за неимением варианта поточнее, «трогательными сценами». Но конкретно «Охотники» – пародия на сентиментальный рассказ. Несчастный случай на охоте оборачивается чернейшей комедией про двух друзей и третьего лишнего. В финале, который писатель похуже использовал бы для разъяснения шутки, Вульф просто подмигивает нам с бумаги, а это надо уметь.
Кристен Рупеньян, «Кошатник» (пер.: Е. Ракитина)
Этот рассказ ненадолго стал самым обсуждаемым текстом журнала The New Yorker, что с прозой происходит крайне редко. Всем знакомая пластинка, выкрученная на максимум, – неудачная попытка завязать роман, начиненная мелкой ложью и ужасным сексом. Рупеньян умудрилась нащупать с полдюжины болевых точек и на каждую надавить – сильно, но недостаточно, чтобы читатель мог упрекнуть автора в чем-либо, кроме исключительной наблюдательности.
Рафаэль Боб-Ваксберг, «Хочешь узнать, на что похожи спектакли?» (пер: А. Ярославцева)
Боб-Ваксберг – автор «Коня Боджека», хитового мультсериала, и пишет он минималистично, как и большинство берущихся за прозу сценаристов. Ровно так, на мой взгляд, и надо писать, чтобы завладеть вниманием людей, тонущих в бездне контента: никаких формальных расшаркиваний, с места в карьер. Если история работает, она будет работать и без антуража. В глазах читателя (во всяком случае, нынешнего) детали, описания – это углубление впечатлений, вишенка на торте, а не сам торт. Очень демонстративен в этом отношении предложенный рассказ. Ни одного лишнего предложения и капкан на читателя при входе – умело исполненное, эмоциональное повествование от второго лица. Завязка такая: девушка приезжает на премьеру спектакля по пьесе брата, и все бы ничего, но герои постановки кажутся ей до боли знакомыми.
Денис Джонсон, «Неотложка» (пер.: Ю. Серебренникова)
Лучший рассказ в сборнике-мемуаре «Иисусов сын», в котором, в общем-то, все истории выдающиеся. Гротескный до одури текст о священной бестолковости жизни. Чтобы не испортить впечатление, только намекну на сильнейшие эпизоды: столовый прибор и случай на обочине. Если вы способны разглядеть паноптикум за ширмой дней, как это умел Денис Джонсон, я вам завидую.
Владимир Сорокин, «Ю»
После «Непрерывности парков» Кортасара – остроумнейшее решение текста-шкатулки. Сорокин – тогда еще большой хулиган – высмеивает метапрозу резким контрастом прослойки: под незамысловатым верхом (бездомный с прямо голосящей фамилией Соплеух читает типографский лист, в который была завернута свиная голова) обнаруживается эпос, пространство иной физики и, что примечательнее, иного языка.
Линор Горалик, «Ахилл говорит черепахе»
Попросите человека без поэтического слуха своими словами записать шутку. Выйдет у него в лучшем случае анекдот. А вот у Горалик получится искусство. Она из тех авторов, которые проделывают фантастическую работу с эстетикой текста, его звучанием. Даже интерпретируя известный миф как историю токсичных отношений, она находит слова, возводящие этот микрорассказ выше комической прозы.
Джордж Сондерс, «Дома» (пер.: В. Арканов)
Этот отдувается сразу за Чехова и Карвера. На уровне формы Сондерс, как и Ваксберг, обходится без выпуклой литературности, но также избегает явной простоты, стилистического бытовизма. Если Сондерс пишет от первого лица, он изобретает героя через его словарь и синтаксические привычки, и «Дома» – это такой до поры забавный автопортрет молодого ветерана из трущоб. Особую глубину в нем обнаруживаешь, читая рассказ как своего рода сиквел «Поправки-22» Хеллера, да только не хочется воспринимать Сондерса как продолжателя чьих-то традиций. Он сам по себе хорош.
Евгений Бабушкин, «Грустный русский для начинающих»
Я хотел взять что-то из Кржижановского, но потом вспомнил про другой, более свежий экземпляр языковой рефлексии. Вообще, по собственной формулировке, Бабушкин пишет «сказки». Дело, конечно, в интонации, а репертуар тем он делит, среди прочих, с Аллой Горбуновой. Свои у него – такие вот жемчужинки в жанре «литература о литературе».
Керет, «Здоровое утро» (пер.: Л. Горалик)
Недооцененный в России израильский писатель. Многие с ним знакомы по фильму «Самоубийцы: история любви», экранизации одной из его вещиц, но читать – не читали. Керет часто ударяется в крайний абсурд, но лучшие его рассказы – это такие «а что если», и «Здоровое утро» – один из них: а что если тебя спутают с другим человеком, и ты сыграешь предложенную роль «до конца».
Дон Делилло, «Полночь у Достоевского» (пер.: А. Самарина)
Самый консервативный рассказ в подборке. Но! Во-первых, это отличный вариант для знакомства с Делилло. Тут все те же биты, что и в «Белом шуме», его лучшем романе: от лукавой образности до наглухо пришибленных (нормальных по меркам Делилло) героев. Во-вторых, да, если антураж, то только такой.
Харуки Мураками, «Повторный налет на булочную» (пер.: Е. Рябова)
На английском языке этот рассказ впервые опубликовал журнал Playboy, и знаете что? Если ты метишь в попкультуру – это замечательно; еще лучше – если стремишься ее формировать, а вот если всячески открещиваешься от нее, прикрываясь элитарностью своего творчества, – скорее всего, пишешь ты так себе. Мураками с восьмидесятых в ладах с попкультуой и не изменяет стилю (назовем его «сомнамбулическим реализмом»), а «Повторный налет на булочную» – компоновка всего хорошего в нем. Тот баланс странного и будничного, который вам больше никто не предложит.
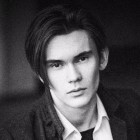

Комментариев пока нет — ваш может стать первым
Поделитесь мнением с другими читателями!