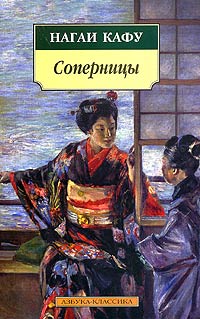Больше рецензий
13 апреля 2020 г. 18:55
511
4 Люди как леса и горы, книги — как картины
Рецензия1. Описание
Известный всем гейшам сердцеед встречает давнишнюю знакомую, которая, пожив в провинциальном доме мужниной семьи, вернулась в город, чтобы снова стать гейшей. Знаменитый сердцеед настолько взволнован встречей со своей первой гейшей, что становится её патроном. Гейша пользуется всё большей популярностью, а читателю приоткрывается её история: как она стала гейшей, как вышла замуж, как умер первый муж и какой была жизнь в провинции. Параллельно раскрываются типичные истории других гейш. Сердцеед ничем таким не интересуется, но настолько очарован, что даже предлагает выкупить гейшу у хозяина, желая обеспечивать её всю дальнейшую жизнь. Гейша в раздумьях, потому что она всегда показывала патрону заинтересованность бóльшую, чем на самом деле испытывала. Примерно тогда же гейша вдруг влюбляется в актёра, вернее даже сказать, теряет от любви голову. Она пытается поддерживать и связь с патроном-сердцеедом, и любовные отношения с актёром, и даже заводит себе ещё одного покровителя, который ей щедро платит — на случай, если патрон-сердцеед от отчаяния или обиды бросит её, ну и чтобы обеспечивать возлюбленного, конечно.
Если говорить обобщённо, то такова завязка этого романа. Если говорить предметно, то это пересказ примерно половины книги. Интересно во всём описанном даже не то, с кем в итоге останется гейша (её сердце, разум и кошелёк), а то, что композиция книги сильно напоминает мне композицию традиционной японской графики. Если вы немного интересовались древней восточной живописью, то знаете, что там нет такого понятия, как перспектива. Не потому, что художники были слепыми, а потому что Такова Традиция. Не пользуясь перспективой, художники рисовали картины в виде вертикальной панорамы: сверху гора, под горой лес, под лесом сидят люди, ниже людей нарисовано озеро, а по краям картины до самого низа — трава и птички с бабочками. Что-то в этом роде. Центральное место в этой условной японской картине, естественно, занимает образ того, чем занимаются люди под лесом, но начинается картина всё-таки с горы, а заканчивается птичками. Так и роман Нагаи начинается с «горы» — точнее, с сердцееда Ёсиоки, его характера, воззрений и образа жизни. От него история переходит к первому образу гейши Комаё, будто сделанному в виде карандашного наброска. Рядом с Комаё читатель-зритель может разглядеть множество образов других гейш, может при желании даже вникнуть в подробности их жизни, — в книге будто целый «лес» гейш. В жизни Комаё тем временем появится актёр Сэгава, и их любовь «под сенью леса» станет занимательным зрелищем. Кульминацию романа легко пропустить, но где-то в тексте она, несомненно, присутствует. Важно, что отсюда история-рисунок уже будет катиться по наклонной к финалу. Чтобы избежать спойлеров, скажу только, что «озеро» — это скорее не озеро, а море, настолько солёная в нём вода (если вы понимаете, о чём я); «птички» же — это предвестники перемен.
2. Недостатки
Проблема двумерной композиции в том, что текст получается плоским, скучным, неглубоким.
С одной стороны, вот она, реальная жизнь реальных японцев, да ещё в такие интересные времена (в эпоху Мэйдзи, если точнее). Разве человек, интересующийся Японией, может желать большего? Я наконец-то увидела множество разнообразных гейш с максимально близкого расстояния. Есть в романе и ценные художественные приёмы, когда, например, главная героиня сперва исполняет роль обезумевшей от разлуки женщины на сцене — а потом сама становится ею в жизни. Прекрасная аналогия.
Но, с другой стороны, я осталась скорее разочарованной. Да, автор хорошо знал быт гейш, был близок с ними, но почему-то женщины в романе выглядят картонными, схематичными. Ни жизни, ни глубины, ни работы мысли, будто гейша — это лишь кукла. Может быть, автор и хотел это показать? Такое чувство, что нет. Скорее возникает ощущение, что гейша — не человек, а отлаженный механизм взаимодействия с мужчиной: женщине не нужна причина, чтобы всплакнуть; сильнее всего бывшую любовницу можно уязвить, заведя новую, в идеале — ненавистную ей; женщина — это сосуд для маленьких и больших страстей, а не живой, думающий и мыслящий человек со своей историей и мечтами. Да, волей-неволей (скорее всё-таки неволей) автор раскрывает главную героиню именно как полноценную личность, но всё равно чувствуется, что для него это — типичная женщина. Остальным — не-главным — героиням даже подобной чести не достаётся. И я вот раздумываю: это автор не хотел понять своих героинь — или же гейши в те времена действительно были только такими? Возможно, мне нужно почитать что-нибудь ещё, чтобы яснее составить представление.
Автор — хотя и обобщённо, но всё же точно — отображает реальность: гейши в те времена и впрямь частенько мечтали быть выкупленными, выйти замуж, завести семью, быть любимыми или хотя бы богатыми — вот это вот всё. Феминистки были бы недовольны (если я и хочу кого уязвить таким комментарием, то скорее автора, чем феминисток), но в 1916-17 годах вряд ли это кого-то волновало. С позиции современной женщины, закрыв глаза на особенности эпохи, гейшами даже можно восхититься — они были на свой лад независимыми, потому что сами зарабатывали себе на жизнь (хотя и считались собственностью хозяина дома, что в эпоху Мэйдзи скорее уже было данью традиции).
Но в целом получающаяся у автора история оставляет неприятный осадок: какой смысл в колорите, разнообразии и правдоподобности, если персонаж с самого начала обречён? Детали, прорисованные на широкой вертикальной панораме, только мешают разглядеть, почему всё случилось так, как случилось. А суть в том, что автор не оставил Комаё ни единого шанса на счастливый финал просто потому, что у неё — такой характер, такая личность, такие чувства. Она могла бы жить обычной женщиной, если бы не особенности её личности. Она могла бы стать обеспеченной содержанкой, если бы не её чувства. Она могла бы даже стать женой своему возлюбленному, если бы не её характер. Конец романа, впрочем, нельзя назвать однозначно несчастливым, во всяком случае, моя маленькая внутренняя феминистка, дочитав, удовлетворённо выдохнула, потому что та женщина, наконец, сможет заняться реальным делом и стать, насколько это возможно, самостоятельной. Однако по ценностным меркам Комаё это, разумеется, самый печальный из финалов. И в целом жизнь Комаё слишком надуманна и литературна (но, к сожалению, недостаточно, чтобы это можно было счесть своеобразным авангардом).
3. Особенности
Во-первых, сильно чувствуется, что это книга о женщинах, написанная мужчиной, который пытался реалистично показать всё с точки зрения женщины. Автор умён и наблюдателен, поэтому получается у него неплохо, но у меня ни на секунду не получалось забыть о разнице между полом автора и главной героини. Автор не очень хорошо умеет «переводить» с женского на человеческий.
Во-вторых, мне понравился стиль описания того, что происходит между мужчиной и женщиной за закрытой дверью (для Нагаи открытой, для всех остальных закрытой). Он завуалировано эротичен, но без косноязычной пошлости «пещер и жезлов».
В-третьих, бросается в глаза аналогия между Комоё из «Соперниц» и Ясуной из «Ветвей горной сакуры» (той обезумевшей от разлуки женщиной, роль которой она исполняла). Мне интересно, насколько такие аналогии свойственны японской литературе? В европейской традиции, я уверена, такая аллюзия была бы сочтена одним из признаков мастерства. А что насчёт японской? Становление Нагаи как писателя протекало под влиянием западной культуры — литературы и театра, истории и музыки, — однако я недостаточно хорошо знаю восточную литературную традицию, чтобы отделять зёрна от плевел. Поэтому я лишь подчёркиваю очевидное и иду дальше.
4. Аудиокнига
Аудиокнига в исполнении Натальи Грачёвой была хороша. Хотя были кое-какие странности. Когда она зачитывала сноски, я не всегда могла понять, сноска это или продолжение текста. А странности в «эмоциональном исполнении», возможно, возникли из-за специфики авторского стиля: когда персонажи не испытывали каких-то особых эмоций, я не могла отличить, кого из двух-трёх беседующих озвучивала исполнительница. Или, возможно, проблема в привычке, что другие исполнители озвучивают разных героев разными голосами, а Грачёва — нет. Но уж когда в тексте были эмоции, Грачёва озвучивала их очень выразительно, и это цепляло.
Обсуждение книги в группе «Чарующая Азия»
Царь горы 2.0