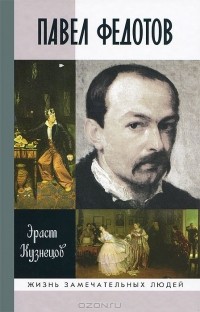Больше рецензий
30 июля 2016 г. 14:33
509
4 Свой парень
РецензияПавел Федотов, возможно, самый любимый русский художник. В том смысле, что о нем плохого слова никто не скажет. С тех самых пор, как Александр Бенуа открыл значение Федотова для нашей живописи, об авторе “Свежего кавалера” и “Сватовства майора” вспоминают с неизменной теплотой и благодарностью, как о чудаковатом дядюшке с коллекцией житейских историй. Нелепицы, байки и анекдоты с федотовских картин подтолкнули развитие магистрального направления в нашей живописи – бытописательского, натуралистического, обличительного – нашедшего последующее выражение в перовской школе и творчестве передвижников. Сравнение с Гоголем напрашивается само собой, потому что все эти офицерики, мелкие чиновники, девицы на выданье, купцы, торгаши и слуги вышли из военного мундира Федотова, как из той самой шинели, обогатившей русскую литературу. И книга Эраста Кузнецова написана с такой же домашней, уютной и деликатной интонацией, что и гоголевское жизнеописание Игоря Золотусского: дореформенная Россия, год за годом ничего не меняется, но все ходят друг к другу в гости.
Федотов был гостем замечательным. Писал стихи в альбомы барышень, развлекал хозяев занимательными историями, играл на гитаре и пел. На Васильевском острове, где он жил в убогом домишке со своим слугой Коршуновым (чисто обломовским Захаром!), полтора века назад селилась публика простая и непритязательная – то, что надо для художника, выросшего на окраине Москвы в бедной семье отставного поручика. Он мог часами бродить в лабиринте улиц-линий и высматривать любопытные типы и фигуры, ненароком подслушать ссору или торг, побеседовать с приятелем или сослуживцем. Федотов был местной достопримечательностью и неотъемлемой частью этой тесноватой кладовки Петербурга, сформировавшей художественный мир его картин, в которых нежданные гости всегда вносят переполох. Даже во времена своей недолгой славы он совсем не походил на знаменитость: не посещал известные салоны и гостиные, не абонировал ложу в Александринке и не выбирался на воды в Бад. Большую часть скудного офицерского жалованья он отправлял пожилому отцу и засидевшейся в девичестве сестре, иногда приезжал и сам: подновить забор, починить крышу, разобраться с долгами. В сущности, Федотов так и остался одним из нас – обычных людей, живущих и так и сяк. Потому, наверно, его и любим.
Только это ведь не все. Была еще живопись. И тут мы понимаем, почему жизнь Федотова и ее ужасный конец трогают до сих пор. Пример его показывает, что человек, приговоренный многочисленными обстоятельствами к бедной неустроенной жизни, может создавать собственную, параллельную действительность художественного творчества. Ничто не предполагало развитие мощного таланта в этом старательном офицере с веселым нравом, любимце начальства и сослуживцев, ему была уготована надежная военная карьера в николаевском царстве мундиров. Но Федотов начал рисовать: сначала шаржи на товарищей, потом гравюры и сепии, затем настоящие картины, а в конце пути пришел к мрачному абсурду “Игроков” и “Анкор, еще анкор!”. Всю жизнь он учился, перерисовывал однажды написанное, неутомимо искал верную натуру и точную деталь, вникал в характеры и ситуации – и однажды стал художником. Редкий, возможно, уникальный случай – но Федотов смог. Не только достиг профессионализма, а стал великим. Значит, творчество – это не искра божья, а тяжелый труд, и не по рождению становятся гениями? Теперь в это верится легче. Только всегда надо помнить о цене достигнутого. Для Федотова все закончилось прижизненным помешательством и посмертным признанием. Он сумел превзойти своих современников, но не перенес разительного отличия творческого триумфа от убожества повседневности. Для равнодушного современника жизнь его была весьма простая. Так, анекдот.